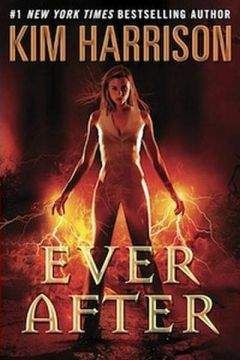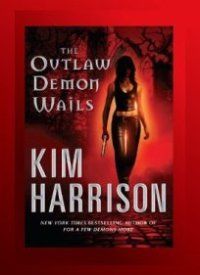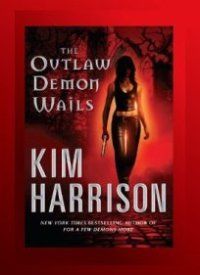Наталия Ильина - Иными глазами Очерки шанхайской жизни
ПРИЛОЖЕНИЯ
МИСС ПЭН
На третий, что ли, день моего приезда в Шанхай я явилась в редакцию газеты «Шанхайская заря». Главного редактора, Льва Валентиновича Арнольдова, моя мать знала молодым журналистом в Харбине двадцатых годов и написала ему письмо, спрашивая, нет ли возможности пристроить меня в газету.
Это была, разумеется, эмигрантская газета, как и большинство изданий на русском языке, выходивших в городах Дальнего Востока. Среди изданий этих были такие, которые материально поддерживались иностранцами, — газеты «Харбинское время» в Харбине и «Русь» в Шанхае субсидировались, например, японцами. Насколько мне известно, газеты и журналы, организованные Лембичем, и в том числе «Шанхайская заря», субсидий не получали, были изданиями коммерческими: не было в Шанхае эмигрантского магазина, ресторана, конторы, аптеки, врача, нотариуса, которые не рекламировались бы в «Шанхайской заре»… Газета существовала давно, считалась солидной, была, пожалуй, наиболее популярной среди шанхайских русских, поэтому и иностранные фирмы не брезговали рекламировать там свои товары. Дешевый труд китайцев-наборщиков и сотрудников-эмигрантов давал возможность издателям не только сводить концы с концами, но и доход получать…
Меня не тревожила мысль о том, что я стремлюсь попасть в сотрудники эмигрантского издания.
Я тянулась к России, рассказы Катерины Ивановны о Москве волновали меня, и время от времени я упрекала мать: зачем мы уехали? Живут же там люди! Им трудно? Будто нам здесь легко! Зато там они среди своих, а мы тут пришлые, никому не нужные. Мать всерьез меня не принимала, до споров не снисходила: ей было хорошо известно мое невежество.
В самом деле: спроси меня тогда, какие революционные партии существовали в моем отечестве, что представляла собой Февральская революция и чем отличалась от нее Октябрьская — на эти вопросы я ответить бы не смогла. Меня тянуло к России, но о том, что там происходит, я не имела почти никакого понятия. А выросла я среди людей, которые не принимали, не признавали того, что в современной России происходит, и этот взгляд на вещи был мне привычен, время подвергнуть его сомнению для меня еще не настало, желания разобраться самой, отре-шась от привычного, еще не возникло. Оно, желание это, возникнет позже, возникнет скоро, а в тот декабрьский день 1936 года, когда я впервые переступила порог «Шанхайской зари», соображения о том, что я собираюсь сотрудничать в эмигрантской газете, меня, повторяю, не тревожили. Тревожило другое. А вдруг ничего не выйдет и Арнольдов, главный редактор, не даст мне возможности устроиться в газету, получить хоть какой-то заработок…
Тревога моя была вполне основательной… Штатные места с фиксированным жалованьем разобраны давно, репортеры же работали на сдельной, построчной оплате. Уголовная и городская хроника, рецензии на концерты и спектакли, интервью с заезжими знаменитостями — все эти отделы имели постоянных авторов. Они между собою вечно грызлись, однако при виде нового человека, покушавшегося на место в газетной полосе, мгновенно и дружно объединялись, близко не подходи, а попробуешь — убить могут! Именно такое впечатление сложилось у меня однажды вечером, когда я, сопровождаемая Арнольдовым, впервые вошла в репортерскую. Грохотали сразу пять пишущих машинок, при нашем появлении смолкли, Арнольдов представил меня, я увидела пять пар вспыхнувших ненавистью глаз, мы вышли, машинки застучали вновь с удвоенной, яростной силой, и было чувство, будто нам в спины пущена пулеметная очередь…
Арнольдов был таким же служащим, как все; как все, зависел от издателей, но эти «все» ненавидели не только Кауфмана, не только «мадам», но заодно и Арнольдова. То ли за то, что он, как редактор и бессменный автор передовиц, зарабатывал лучше других. То ли за его барственные повадки, любовь к чтению нотаций, восторженное отношение к иностранцам и членство во Французском клубе, куда эмигрантов допускали не так уж охотно…
Арнольдов жил неподалеку от редакции, являлся туда несколько раз в день и неизменно в полночь — проглядеть, подписать последние полосы. Шел по коридору своей гусиной походкой, развернув ступни, заглядывал в репортерскую — невысокий, лысый, голубоглазый, с уютным брюшком, в пухлой, женской руке сигара. Бело-розовый и выхоленный, он одевался на иностранный манер — пиджаки из рыжего твида, серые фланелевые брюки, вязаные жилеты… А бывало, что ночью Арнольдов появлялся в лакированных ботинках и видневшемся из-под пальто смокинге, что означало: только что с банкета! В этой прокуренной, с грязными стенами репортерской он выглядел существом из иного мира, из мира коктейлей, дорогих отелей и автомобилей последних марок. Стоя на пороге, слегка покачиваясь на носках, Арнольдов снисходительным взглядом, окидывал репортеров в их кургузых пиджаках, произносил: «Ну-с, ну-с, трудитесь!» — и исчезал, оставив после себя запахи сигары, одеколона, иногда чего-то приятно-алкогольного. Арнольдова начинали поносить, едва за ним закрывалась дверь, а уж смокинг особенно тяжело действовал на нервы репортеров… Интеллигентная дама средних лет, знающая иностранные языки (брала интервью и писала рецензии), и вполне малограмотный уголовный репортер в обычное время терпеть друг друга не могли, но в эти ночные часы, ругая Арнольдова, проявляли полное, почти любовное единодушие: ненависть — великая объединяющая сила…
В этих поношениях я участия не принимала, в мою сторону косились враждебно, и я знала — стоит мне выйти за дверь, будут ругать и меня. Уже пришлось однажды слышать, как интеллигентная дама, едва я вышла из комнаты, громко кого-то спросила, понимая, что я услышу ее слова: «Интересно, с какой целью Левка сунул к нам эту бездарную девчонку?»
Арнольдов был холостяком, делил квартиру со своей матерью, к женщинам был равнодушен, и лишь этот общеизвестный, часто с глумлением обсуждавшийся факт спасал меня от позорных подозрений, что я, собственным, так сказать, телом заплатила редактору за возможность проникнуть на газетные полосы… Убеждена, что репортерам полегчало бы от этого объяснения, — оно было бы так понятно, просто, общедоступно, человечно, — но, увы, к данному случаю не подходило никак, и оказываемое мне Арнольдовым покровительство терзало сотрудников газеты своей загадочностью…
В тот декабрьский день, когда я впервые переступила порог арноль-довского всегда темного кабинета (единственное окно — в стену соседнего дома), главный редактор, сидя за своим столом у зеленой лампы, освещавшей гранки, сырые полосы и прочие бумаги, задумчиво глядел на меня, держа сигару над пепельницей… Он уже сообщил мне: штатных мест нет, возможности работать построчно тоже нет, — а я не уходила, надеялась на что-то…