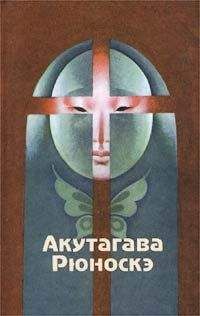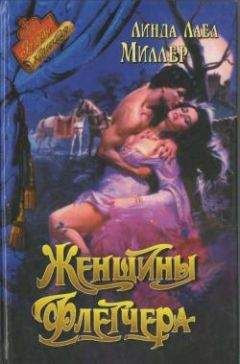Владимир Жданов - Неизвестный Толстой. Тайная жизнь гения
В Москве Льву Николаевичу сделали операцию вновь вправленной руки, после чего он не мог писать и диктовал письма свояченице.
В одном из них: «Соня, милая моя, совсем я без тебя расстроился, ни спокойствия, ни решительности, ни деятельности – никаких, а все оттого, что без тебя я теряю equilibre [94] , все равно, как все время на одной ноге стоишь».
Едва рука поджила, как он старается лично приписать несколько нежных слов:
«Прощай, моя милая, душечка, голубчик. Не могу диктовать всего. Я тебя так сильно всеми Любовями люблю все это время. Милый мой друг. И чем больше люблю, тем больше боюсь».
Она отвечает: «Вот счастье-то было читать твои каракульки, написанные больной рукой. Всеми Любовями… Я то уж не знаю, какими я тебя Любовями люблю, да всегда воздерживаюсь говорить о них, потому что ты когда-то сказал: «Зачем говорить; об этом не говорят».
Из другого письма Софьи Андреевны: «Хоть мне и весело писать тебе, милый мой Левочка, а все-таки я желала бы, чтоб этого уж не нужно было. Тянешь, тянешь день за день, и все делаешься нетерпеливее, и все больше и больше хочется тебя видеть, милый мой друг… Всякий раз, как подумаю о том, что, может быть, ты скоро приедешь, со мной делается радостное содрогание, а жизнь впереди представляется такой счастливой, радостной.
Нынче у меня руки отнимаются писать с гори, что нет от тебя письма. Верно, что-нибудь на почте не так, я уверена, что ты пишешь всякий день. То приходит мне в голову, что это письмо я пишу напрасно, а что ты теперь с болью в руке, в тяжелой шубе едешь домой. Если б ты видел, как Сережа мил. Ползает по полу, дует на бумажку и ползает за ней; опять дует, опять догоняет. Девочка спит, а я все горюю о своем одиночестве, мечтаю о будущем, люблю тебя ужасно, и так грустно, Левочка, на душе, так хотелось бы быть с тобой, мой милый друг».
«Прощай, милый мой друг, – приписывает Лев Николаевич больной рукой в другом письме. – Как я тебя люблю и как целую. Все будет хорошо, и нет для нас несчастья, коли ты меня будешь любить, как я тебя люблю».
Трогательные отношения, взаимная уверенность рассеяли страхи и сомнения и позволили с особенной бережливостью относиться друг к другу, заглушить природную ревность. Софья Андреевна боится, что мужу будет скучно в Москве, и она его спрашивает: «Хорошо ли тебе? Ты обо мне не думай, ты все делай, чтоб тебе весело, и в клуб езди, и к знакомым, к кому хочешь; я теперь насчет всего так покойна, так счастлива тобой и так в тебе уверена, что ничего в мире не боюсь. Это я тебе говорю искренно, и самой приятно в себе это чувствовать».
Через несколько дней она снова убеждает его: «Что ты все дома сидишь; ты бы съездил кое к кому, все бы рассеялся. Я так боюсь, что ты, пожалуй, думаешь, что мне неприятно, а мне, право, ничего, хоть даже к самой А. О.[боленской]».
И Толстой платит жене тем же. Он не позволяет себе ничего, что могло бы хоть немного быть неприятно Софье Андреевне. Работая в Москве над материалами к роману, он узнал, «что у графа Уварова есть переписка его дяди, командовавшего корпусом в 1805 году; поехал к нему, но не застал дома. Предмет же мой прежний, – сообщает он жене, – мне сказали, что принимает, но я, разумеется, не пошел, потому что мне скучно бы было и тебе, может быть, неприятно».
Эти письма 1864 года. А 10 апреля 1865-го Лев Николаевич отмечает в дневнике: «Соню очень люблю, и нам так хорошо!»
26 сентября: «Мы очень хорошо вернулись с Соней домой. Мы так счастливы вдвоем, как, верно, счастлив один из миллиона людей».
Подтверждают эту запись несколько выдержек из переписки того времени.
Лев Николаевич пишет жене с охоты: «Я рад, что в этот день меня развлекли, а то дорогой мне уже становилось за тебя страшно и грустно. Смешно сказать: как выехал, так почувствовал, как страшно тебя оставлять… Никогда мы перед разлукой не были так равнодушны, как этот раз, и потому мне все о тебе щемит. Прощай, душенька. Пиши все дневником подробнее, хоть по приезде прочту».
«Из чего ты взял, что мы были равнодушны друг к другу перед разлукой, – отвечает ему Софья Андреевна. – Я не была равнодушна; мне было грустно, что ты едешь, а, главное, едешь больной. А твое равнодушие я считала за желчное, нездоровое расположение, в котором ничто не мило и ничто не трогает».
Из другого письма Льва Николаевича: «Я не жалею, что я поехал, и не нарадуюсь. Особенно, когда приеду и увижу тебя и детей, – тебя с твоей улыбкой, и тебя, здоровую, счастливую и спокойную. Только чтоб с тобой ничего не случилось во все это время… Прощай, душенька, Христос с тобой».
Уезжая в Тулу, Лев Николаевич оставляет жене записку: «Я тебя не стал будить; авось, сном ты избавишься от боли. Я уезжаю в 11, стало быть, раньше 6 не приеду. Ежели же что-нибудь интересное, – что очень сомнительно, – задержит, то останусь и вечер. И я паинька, и ты будь паинька, и Сережа будь паинька, не будет…
Я все медлю, хотелось бы тебя поцеловать перед отъездом».
Весеннее письмо Софьи Андреевны к сестре говорит о настроении Толстых в следующем, 1866 году:
«Как у нас теперь в Ясной хорошо, Таня. Просто чудо! Соловьи в эту минуту со всех концов свистят и щелкают. Дождь нынче шел, но тепло, тихо, прелесть. Везде молодая зелень, и так все растет, такая благодатная весна. Сад наш вычистили, и на кругу и на первой дорожке новые лавочки поделали, а то ты бы рассердилась, что все погнило, и сидеть бы негде было. Детки мои, с кабриолетиком, тележками, разными ребятами, целый день по дорожкам бегают, а уж особенная partie de plaisir [95] – это ходить в лес. Они очень поправились и развились. А я страшная такая стала, худая, а спереди целая гора. Смотреть страшно. На тягу я хожу с Левой почти каждый раз, и мы таки бивали в начале весны довольно много вальдшнепов. Очень было хорошо».
Приводим два отрывка из переписки между Ясной и Москвой, куда Лев Николаевич осенью уехал по делам «Войны и мира».
«После обеда еще получил твое первое письмо. И мы оба с мама так принялись хвалить тебя, что самим стало совестно. Как грустна о Машеньке. А Таню маленькую я так и вижу, и сияю при мысли о ней. Прочти им: «Сережа милый, и Таня милая, и Илюша милый, я их люблю. Сережа теперь большой, он будет писать папаше». – И вели ему написать и Тане, то есть нарисовать что-нибудь мне».
Так писал Лев Николаевич. Софья Андреевна ответила: «Знаю, милый, и уверена, что ты думаешь о нас всех; а я-то как и думаю и мучаюсь о тебе и как люблю тебя. Нынче всю ночь, решительно, не спала и все мучилась, что письма не было вчера. Если б ты знал, какая была длинная, мучительная и страшная для меня ночь. Надеюсь, что ты мне напишешь, в какой день намерен воротиться домой. То-то я ждать тебя буду!»
Из ее дневника: «Я так радостно вспоминаю 17 сентября с музыкой, которая меня так удивила и обрадовала, за обедом, и при этом милое, любящее выражение Левы, и этот вечер на террасе при свете фонарей и огарочков, и оживленные, молодые фигуры барышень в кисейных белых платьях, маленький добродушный Колокольцев [96] , а, главное, везде и надо всем оживленное, любимое лицо Левочки, который так старался и достигал того, что нам всем было так весело. Я сама удивлялась, что я, солидная, серьезная, танцевала с таким увлечением. Погода была такая чудная, и всем нам было так хорошо… Мы ужасно счастливы во всем. И в наших отношениях, и в детях, и в жизни».