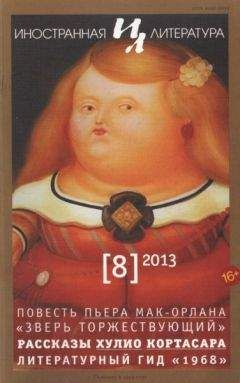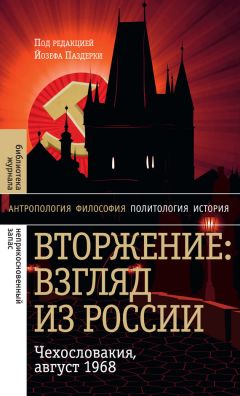Вадим Делоне - Портреты в колючей раме
Кто-то тронул меня за плечо. Отрекшийся от «престола», бывший король блатных голубоглазый Леха Соловей смотрел на меня сочувственно:
– Тошно тебе, политик, мне тоже тошно. Пойдем, угощу чифиром.
Мы зашли к Лехе в барак. Он едва заметно щелкнул пальцами, и через три минуты кружка дымящегося запрещенного чайного настоя уже стояла перед нами. Он отхлебнул три ритуальных глотка и передал кружку мне со словами:
– Да, перестарались наши ребята… Ну доносили эти бичи, но ведь не по своей воле, а когда их менты прижимали. Не за досрочное освобождение, как активисты, а за хлеб, за лишнюю пайку. Я говорил блатным этим, не надо их слишком стращать. Но те все грозили. Вот эти двое, очумев от страха, боялись за ворота лагеря выйти, думали – убьют. Да они же – не как этот «Кишка» Миронов, которого Егор вспорол, они никому срок лагерей не продлили, так, по мелочи стучали. Да кто бы стал им мстить! А видишь, испугались. Ну, а конвою только повод дай почки отбить – вовремя освобождаться не пришли… Они же у меня в бригаде работали оба, я им все время кашу свою отдавал, потому как лет пять уже ее не ем, тошнит, да видно, каша не впрок пошла. Долго после такого «освобождения» не проживут. А тебе, политик, жалеть их не следует, это уж наши дела, сибирские…
Я знал, что имеет в виду Лешка Соловей. Бичи эти, изголодавшись еще на воле, тянулись ко всему съестному беззаветно. Они и думать ни о чем другом, казалось, не могли. Они выпрашивали лишний черпак каши, выслуживались, где только можно, и, если начальство сулило им кусок сала, – они плакали, но доносили.
Помимо того, бичи, махнув рукой на свое будущее, опустившись, не стремились даже попасть в баню, которая устраивалась раз в десять дней. Они натягивали на себя всякое тряпье, и появлялись вши. А в каждой секции барака было человек по 80… Вши, они не разбирают – блатной ты, политик или бич, моешься ты или не моешься. Иногда, уже не в силах сдержать свою страсть к временному насыщению, бичи крали по мелочам – на крупные кражи они не решались. У кого пайку хлеба, у кого сигарету. А кража такая, по лагерным законам, есть самый страшный грех. Кража у своих – так называемое крысятничество. И тогда бичей били, страшно, жестоко били, но все же не так, как бьет конвой. Били остервенело, но нерасчетливо. Не раз я наблюдал эти расправы. Не раз мне приходилось отводить глаза в сторону, но сделать ничего не мог.
От бичей все ожидали только вшей и доносов, а что может быть в лагере страшнее вшей и доносов ближнего…
– Да, жалко этих ребят, – говорил Соловей, – но если ты распустил желудок, и он в тебе все перевесил, – считай, что тебе конец…
* * *– Ну, так что, бичи, – как сквозь сон услыхал я повторный вопрос Саньки Арзамасского, – я вас спрашиваю, как пособие?
Бичи, затаившись, помалкивали. Архипыч о чем-то напряженно размышлял. Санька не унимался.
– Вон глянь на них, политик, сопят в две дырки, даже ушами не шевелят и мышей не ловят. Им один хрен – что калым, что Колыма, что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило. Ты вот, поэт, какой там лозунг на Красной площади выкинул? «За вашу и нашу свободу», кажется? Стало быть, и за их свободу сидишь. А им какая свобода нужна? Им кто бачок с кашей выставит, тому и будут жопу лизать. Эх, народ! Да ну их всех в болото! Ты мне лучше вот что скажи, политик, ты-то хоть сам что-нибудь понимаешь в этой музыке, которую хиппи западные так почитают?
– Ничего не понимаю, – сознался я. – Ты бы что-нибудь полегче меня спросил, Санька. Еще Бетховена от Баха, или Брамса от Моцарта, это я, пожалуй, все же отличу. А вот где там «Роллинг Стоунз», тут я полный профан. Надо мной в Москве девицы всегда потешались за отсталость и старомодность.
– Во-во, – ликовал Санька, – за что я тебя уважаю, политик, – это за то, что лишнего на себя не берешь. Ежели знаешь, так знаешь, а нет, так прямо и говоришь. А то у нас все теперь «профессора», особенно если партбилет заимеют или диплом какой-нибудь, все тюльку гонят и лапшу на уши православным вешают, так что от этих баек потом год не отскребешься. Что до Бетховена или там Чайковского, тут я спорить не берусь. Тут дело серьезное, по консерваториям походить надо, послушать внимательно, а мне, сам понимаешь, недосуг как-то было. Все больше слух свой настраивал на тот предмет, чтобы определить, звенит у встречного что-то в кармане или тишина. Не до Бетховена было. Но я так думаю, что, ежели в старые времена люди эту музыку послушать собирались, и при всех королях музыканты в почете были, стало быть, неспроста это все, и не мне судить. Что до хиппи до этих, тут меня не проведешь, я их песни по приемнику на разных западных волнах не раз ловил. На гитаре-то и я не хуже сбацать могу, а в микрофон каждый дурак завывать наловчиться сможет, ежели к тому же и деньги платят.
– Постой-постой, Арзамасский, – вступился кто-то из знатоков, – а этого, который по-французски поет, да вот Монтана, ты слышал?
– Слышал Монтана, – отмахнулся Санька, – не понимаешь, про что речь, не лезь! Монтан – не хиппи, он с чувством поет и мелодии хорошие. Да я не про Монтана вовсе толкую.
– Раньше даже по нашему радио передавали песни Монтана, а теперь что-то не слышно, – вставил тот же знаток, – может, ты, политик, знаешь, что там с ним стряслось?
– С ним-то ничего не стряслось, – пояснил я, – просто у нас его запретили.
– За что запретили, он же не по-нашему поет, все равно непонятно, – разом заволновались все.
– Да как так, я же помню, – недоумевал Санька, – еще про него же и песня была советская: «Когда поет далекий друг…», – и дальше в том же духе. За что его так?
– А так, сняли с репертуара, – уточнил я, – он в фильме снимался про чешские тюрьмы, коммуниста играл, из которого свои же, партийные, показания пытками выбивали, ну как у нас. А его за эти съемки в нашей «Литературной газете» обозвали врагом мира и социализма. Пишут, Монтан во время съемок даже 20 кило веса потерял – так в образ вжился, ну то есть переживал за своего героя. Так к этому почему-то особенно прицепились в статье, клеймили, издевались – дескать, мол, ренегат, мало того, что в клеветническом фильме снимался, так еще и двадцать кило потерял! Как будто он их не потерял, а приобрел. Ну, короче говоря, заявили, как всегда, что нету тюрем при социализме. Так что Монтана урезали, и теперь шиш с маслом, а не Монтан, Краснознаменный хор Советской Армии за всех монтанов отпоет.
«Литературную газету», по каким-то неведомым причинам считавшуюся либеральной, хотя от других газет она ничем не отличалась, в лагерях не выдавали, и подписаться на нее тоже было нельзя. Поэтому история с Монтаном прозвучала как сенсация.
– Вот это да! – изумился Санька. – Вот сволота поганая, коммунисты вонючие! Мало того, что своим ничего путного ни спеть, ни сыграть не дают, так они и чужим указывать стали, где сниматься, а где не сниматься. Эдак ежели пойдет, они всех заставят петь «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» или «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».