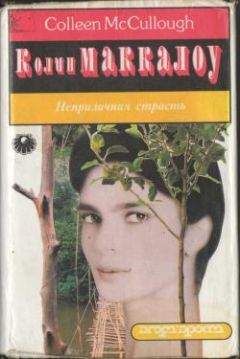Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
«Мое мнение, — писал он мне в том же письме, — что надо сделать демонстрацию — настоящий спектакль у Мейерхольда. Кстати, что о нем слышно? Я постараюсь ко 2 — 3-му (июля) развязаться со всеми книгами — обопсел до того, что не играю на скрипке».
Но поработать нам над пьесой не пришлось. В следующем письме (от 21 июля 1926 года) Житков писал:
«Видишь, какое дело: я уже билеты заказал и деньги дал на субботу — еду с женой в Феодосию. Через месяц вернусь. У нее отпуск кончается, а у меня деньги. Приеду, тогда и двинем (пьесу). А сейчас я обалдел даже малость от последней спешки… на меня не сетуй, я всегда тебе друг».
Когда он воротился из Крыма, я был занят какими-то другими сюжетами, и пьеса осталась ненаписанной.
Но все это относится к тому периоду биографии Житкова, который памятен не мне одному. Об этом периоде гораздо подробнее скажут другие. Я же считал своим долгом рассказать главным образом про детские годы писателя, годы, которые мало кто помнит, так как из нас, его сверстников, почти все уже вымерли. А между тем, не зная его детства, невозможно понять, почему его книги сохраняют свое обаяние для каждого нового поколения советских детей. Основная причина, повторяю, заключается в том, что по всему своему душевному складу Житков уже тогда, в то далекое время, больше полувека назад, явил собою, так сказать, прообраз типичного советского мальчика. Теперь таких ребят миллионы, а тогда он был редкостью, невиданным чудом. С десятилетнего возраста он испытывал, например, влечение к механике, технике, в то время как тогдашние дети были в огромном своем большинстве страшно далеки от нее. Да и какой же техникой могли бы мы соблазниться тогда? Еще не было ни автомобилей, ни трамваев, ни самолетов, ни мотоциклов, ни радио, не говоря уже о телевизорах или кино. Выйдешь на пыльную, пустынную булыжную улицу и видишь медлительных, усталых волов, которые, еле перебирая ногами, тащат за собой биндюги. Это был наш главный транспорт — неповоротливые телеги да еще конка, запряженная клячами. А Житков именно в такое время и в такой обстановке сделал технику центром своих интересов, и уже этим одним его детство перекликается с детством современных ребят.
Физкультуры, без которой нынче прямо-таки немыслимо детство, тоже не было тогда и в зародыше. Даже слова такого не знали. Пристраститься в то время к спорту, к гребле, к плаванию, к дальним походам — значило опередить свою эпоху. И любовь Бориса Житкова к самодисциплине, к «закалке воли», к героической мужественности тоже сделала его далеким предтечей советских людей. Потому-то он, пожилой человек, оказался в такой гармонии с новой эпохой строительства, технических дерзаний и опытов.
КОРОЛЕНКО В КРУГУ ДРУЗЕЙ
I. На даче под Питером
Дом, в котором поселился Короленко, был переполнен детьми. Дети были отличные: Шура, Соня, Володя и Таня. Я знал их уже несколько лет и с удовольствием водил их купаться, катал в рыбачьей лодке, бегал с ними наперегонки, собирал грибы и т. д.
— Странно, — сказала мне однажды их мать. — Я большая трусиха, вечно дрожу над детьми. А с вами не боюсь отпускать их и в море, и в лес.
— Не усмотрите здесь, пожалуйста, аллюзии,[21] — сказал Короленко, обращаясь ко мне, — но когда мы были малышами, мама преспокойно отпускала нас купаться с одним сумасшедшим.
Потом помолчал и прибавил, как бы утешая меня:
— Сумасшедший был совсем безобидный, и мы его очень любили.
Это было сказано так благодушно, что, конечно, я нисколько не обиделся, тем более что сам Короленко при всякой возможности тоже брал с собою на взморье всю эту четверку детей: Шуру, Соню, Володю и Таню.
Там, на взморье, у него было любимое дело: он отыскивал на берегу плоский камушек и так искусно забрасывал в море, что прежде, чем кануть на дно, камушек, скользя по воде, подскакивал не меньше двенадцати раз. У меня, как я ни старался, он подскакивал раз пять или шесть, а «дядя Володя» шепнет над ним какое-то волшебное слово, разбежится и так зашвырнет его в воду своей сильной короткой рукой, что тот, словно и впрямь заколдованный, летит рикошетом и ни за что не хочет погружаться на дно.
В том же году, чуть ли не в день рождения «дяди Володи», дети поднесли ему в подарок один из его излюбленных камушков с привинченной серебряной пластинкой, на которой гравированная надпись именовала его чемпионом рикошетного спорта.
Вообще многое в нем казалось детям необычайным, чарующим. Как-то во время дождя они выбежали в сад и стали со смехом показывать пальцами на окошко во втором этаже, откуда высунулась его голова, кудлатая, густо намыленная: «дядя Володя» мыл голову прямо под летним дождем без помощи умывального таза, и вместе с дождевыми струями на землю стекала белая мыльная пена.
Дети видели здесь дерзновенное новшество, разрушающее ненавистную им рутину общепринятого мытья головы, и с упоением глядели в окно, словно там совершалось веселое чудо.
Очень насмешила их всех встреча «дяди Володи» с бродячим фотографом, который настиг его в переулке, неподалеку от дачи, и, не спросив разрешения, стал целиться в него аппаратом. Аппарат был громоздкий, на ножках, допотопной конструкции.
— Чуть только фотограф приготовится щелкнуть, — рассказывала мне на следующий день детвора, — дядя Володя поднимет портфель, закроет им все лицо, даже бороду.
Это проделывалось несколько раз. Под прикрытием того же портфеля Короленко ускользнул в боковую калитку, и фотограф остался ни с чем.
Дело происходило в 1910 году, когда в России расцвела буйным цветом так называемая желтая пресса, которая ради дешевой сенсации публиковала интимнейшие фотоснимки с известных и полуизвестных писателей, изображавшие их то на пляже, то в дачном гамаке, то в бильярдной, то за бутылкой вина. Под снимками были игриво-развязные, вульгарные подписи. В этой крикливой пошлятине Владимиру Галактионовичу виделось растление писательных нравов, и он самым решительным образом отваживал бесцеремонных репортеров.
Здесь, в Куоккале ему так хорошо удалось защитить себя от всякой публичности, что даже соседние дачники и те не могли догадаться, что этот коренастый, кудрявый, седобородый человек в люстриновом потертом пиджачке, торопливо шагающий с набитым портфелем мимо их балконов и окон к станции дачного поезда, есть знаменитый писатель, имя которого с давнего времени окружено почетом.
Ездил он в город в определенные дни и, когда вместе с толпой пассажиров ожидал поезда на станционной площадке, он ничем не выделялся из толпы, и я не помню, чтобы хоть один человек узнал его и сказал бы другому: