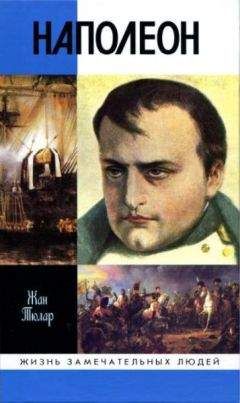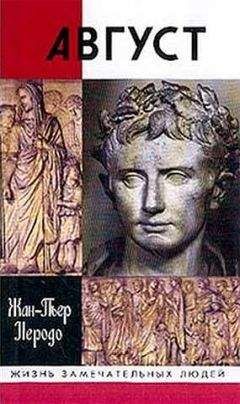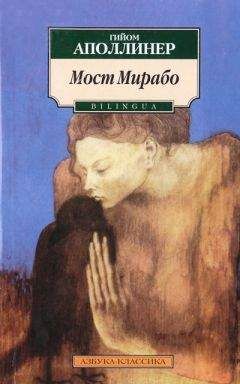Вацлав Нижинский. Его жизнь, его творчество, его мысли - Сард Гийом
Текст письма дает понять, насколько Нижинский был непостоянен и наивен. Непостоянство его проявилось в том, что первым делом он телеграфировал Астрюку: «Соблаговолите сообщить прессе, что я не буду далее работать с Дягилевым» (5 декабря 1913 г.). Что до наивности, об этом говорит его вера в возможность примирения. У меня есть ощущение, что Нижинский вел себя как капризный ребенок, уверенный в том, что Дягилев всегда его простит. Его женитьба оказалась просто еще одним сердитым выпадом против любовника. Я думаю, что Нижинский осознал всю серьезность совершенного поступка довольно поздно, а когда осознал, он пришел в ужас и смятение: Дягилев отвернулся от него, разгневанный и обманутый.
Со своей стороны, Дягилев вновь обратился к Фокину и пошел навстречу всем его условиям (согласился даже исключить из репертуара балеты Нижинского). Еще он нашел в Большом театре молодого танцора Леонида Мясина, чьи прекрасные глаза его совершенно очаровали. При помощи хореографа Фокина (который, давно перешагнув рубеж тридцатилетия, больше не мог играть молоденьких юношей) Мясин стал новой звездой Русского балета.
Времена, когда имена Дягилева и Нижинского на одном дыхании произносились вместе, прошли. Вот как впоследствии танцовщик оценивал этот период своей жизни:
Я ненавидел Дягилева с первых дней знакомства с ним, потому что знал, какая у него сила. Мне не нравилась сила Дягилева, потому что он ею злоупотреблял. Я был беден. Я зарабатывал шестьдесят пять рублей в месяц. Шестидесяти пяти рублей в месяц мне не хватало, чтобы прокормить мою мать и себя. (…) Львов по телефону познакомил меня с Дягилевым, который позвал меня в отель «Европейская гостиница», где он жил. Я возненавидел его за его слишком уверенный голос, но пошел искать счастья. Я нашел там счастье, потому что я его сейчас полюбил. Я дрожал как осиновый лист. Я ненавидел его, но притворился, поскольку знал, что мы с моей матерью умрем с голоду. Я понял Дягилева с первой минуты, а поэтому притворялся, что я разделяю все его взгляды. Я понял, что жить надо, а поэтому мне было все равно, на какую идти жертву.
Очень резко сказано. Это не следует воспринимать буквально. Душевное здоровье Нижинского, когда он писал эти строки, было уже сильно подорвано. К тому же танцовщиком владело довольно мелочное желание мщения. Ведь иначе как с улыбкой нельзя воспринимать слова Нижинского о том, что в 1908 году ему грозила смерть от голода. Бившее ключом честолюбие сыграло в этом важную роль; без сомнения, творчество уже составляло суть его жизни, искусство, словно порок, уже парализовало его душу. Нижинский отдался Дягилеву, движимый амбициями, и еще потому, что импресарио представлял собой харизматическую личность. Возможно, танцовщик также чувствовал необходимость в том, чтобы кто-то взял на себя заботу о нем, судя по этим его словам: «Я хорошо понимал, что если я оставлю Дягилева, то умру с голоду, потому что я недостаточно созрел для жизни. Я боялся жизни». Действительно, Нижинский никогда не был приспособлен к повседневной жизни. Его жена писала, что в 1917 году он «совершенно терялся, когда следовало заниматься обыденными повседневными делами. Заказать комнату в отеле или купить билет на поезд – это становилось для него неразрешимой проблемой».
Далее Нижинский пишет: «Дягилев – ужасный человек, с грабительским отношением ко всему». В этих строках звучит глухая глубокая обида. Следует сказать об этом несколько слов, исходя из того, что известно об импресарио Русского балета. Одни подчеркивают его сомнительные моральные качества, упирая на некоторые отвратительные всем известные пороки, другие говорят о его даре находить и взращивать таланты. Безусловно, Нижинский никогда не стал бы без Дягилева гениальным хореографом-новатором. Именно Дягилев воспитал в нем вкус к авангарду и направил на путь творчества. Морис Сакс справедливо полагал, что гений Дягилева заключался в том, что он «заставлял людей творить, заставлял всех выкладываться и создавал вокруг себя бурлящую идеями творческую мастерскую». [153] Это прекрасно иллюстрирует пример Жана Кокто.
Как-то ночью в 1912 году мы оказались на площади Конкорд, пишет он. Дягилев возвращался после спектакля, скулы сведены, глаза влажно блестят, словно португальские устрицы, кажущаяся маленькой на его огромной голове шляпа съехала набок. Впереди шел угрюмый Нижинский, в трещавшем по швам от выпиравших мускулов смокинге. Я находился в том абсурдном возрасте, когда считаешь себя поэтом, и чувствовал в Дягилеве вежливое сопротивление. Я спросил его об этом. «Удиви меня, – ответил он мне, – я хотел бы, чтобы ты меня удивил». Эта фраза спасла меня от блестящей карьеры. Я быстро понял, что Дягилева за две недели не удивишь. С этой минуты я решил умереть и заново родиться. Работа была долгой и жестокой. Этим разрывом с душевной беспечностью, тем более отвратительной, чем глубже она скрывается под покровом печали, я обязан ему, этому людоеду, этому священному чудовищу – и своему желанию удивить этого русского князя, который стремился в жизни лишь к обретению чудес. [154]
Конечно, это было тяжело для тех, кто работал с ним («долгой и жестокой», сказал Кокто), и в особенности для Нижинского. Несомненно, он выжимал себя до капли под бичом своего требовательного любовника: «Я чуть не умер, ибо был измотан. Я был подобен лошади, которую кнутом заставляют тянуть тяжесть». Но такова была природа Дягилева, и он разрушал себя излишествами так же страстно, как Нижинский стремился к дисциплине.
Можно ли упрекать Дягилева за разрыв с Нижинским? Конечно, он имел обыкновение использовать с ловкостью вора таланты своих артистов, а потом бросать их. Но, с другой стороны, только те, кто не теряет голову от любви, не испытывают ревности. Разве удивительно то, что он болезненно воспринял женитьбу своего любовника и ab irato [155] избавился от него?
Реакция Дягилева становится понятна, когда мы узнаем, что незадолго до смерти, в 1929 году, он сказал Игорю Маркевичу, что до него самыми любимыми людьми были его кузен Дима, Нижинский и Мясин. А десятью годами ранее Нижинский написал в своих «Тетрадях» трогательные слова: «Я был Дягилевым. Я знаю Дягилева лучше его самого».
В сумраке великой войны
Путь в одиночестве
В это время Нижинский обсуждал с Жаком Руше условия работы в труппе Парижской оперы. Новый директор Оперы сделал ему хорошее предложение: стать главным балетмейстером и первым танцором с приличным гонораром и возможностью работать с другими труппами. [156] Но он сделал другой выбор, который вполне объясняет такая запись в его воспоминаниях: «Она [Ромола] была ловка и пристрастила меня к деньгам». Осаждаемый Альфредом Батом, владельцем театра «Палас» (одного из мюзик-холлов Лондона), он с ним подписал контракт, согласно которому мог собрать небольшую собственную труппу (в число четырнадцати участников вошли его сестра и ее муж, Александр Коче-товский) и составить репертуар. Равель согласился сделать новую оркестровку немного иначе подобранных пьес Шопена для новой хореографии балета «Сильфиды», для которого Борис Анисфельд, «хороший человек», по словам Нижинского, создал декорации с серебристыми березами на фоне ночного неба (Дягилев запретил Баксту работать с Нижинским). Таким образом, в первую из четырех программ Сезонов Нижинского, которые должны были длиться восемь недель, Вацлав включил обновленных «Сильфид», «Восточный танец» Синдинга (соло, впервые исполненное Нижинским в «Ориенталиях», предстояло танцевать Кочетов-скому) и «Призрак розы». К последнему балету ему поневоле пришлось вернуться, несмотря на то что он ему страшно надоел. Принесший ему славу «Призрак розы» был классическим балетом и более соответствовал вкусам публики, чем постановки в духе «Весны священной». Кокто же так пояснил решение Нижинского: «В “Призраке розы” он достиг совершенства, хотя с 1913 года стал выступать в нем неохотно. Хореография “Весны священной” вызвала скандал, и ему было неприятно, что в одном спектакле его принимают с восторгом, а в другомосвистывают». [157]