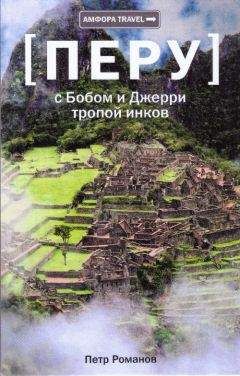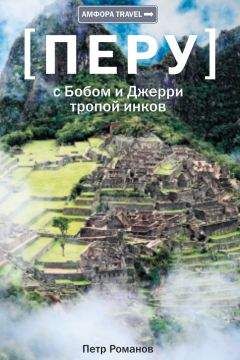Фёдор Шаляпин - «Я был отчаянно провинциален…»
Но Кондратьев обругал меня глупцом и приказал готовиться к спектаклю, назначенному утренним в прощеное воскресенье. Когда я учил роль Мельника, Дальский предложил мне прочитать ему вступительную арию. Я прочитал.
– Мне кажется, – сказал Дальский, – ты неверно понимаешь характер Мельника. Это – не вертлявый, бойкий мужичонка, а солидный, степенный мужик.
Я тотчас понял мою ошибку. В Тифлисе я играл Мельника именно вертлявым мужичонком.
В прощеное воскресенье я спел Мельника с большим успехом – первым и единственным за весь сезон. Мне много аплодировали, поднесли венок, но среди товарищей по сцене успех мой прошел незамеченным. Никто не поздравил меня, никто не сказал ласкового слова. А когда я шел за кулисы с венком в руках, режиссер, делая вид, как будто все это не касается его, отвернулся от меня и равнодушно засвистел.
Помимо неуспехов моих, мне противно было ходить в театр из-за отношения начальства к артистам. Я был уверен, что артист – свободный, независимый человек.
А здесь, когда директор являлся за кулисы, артисты вытягивались перед ним, как солдаты, и пожимали снисходительно протянутые им два директорских пальца, слащаво улыбаясь. Раньше я видел такое отношение только в канцеляриях. Здесь оно казалось мне неуместным. Однажды режиссер сделал мне строгое замечание за то, что я на Новый год не съездил к директору и не расписался в «Книге визитов». Но мне казалось унизительным выражать начальству почтение через швейцара, да я, кажется, и не знал, что существует такая церемония. Было и еще немало мелочей, которые очень тяготили меня. Я перестал гордиться тем, что считаюсь артистом императорских театров. За весь сезон помню только одно приятное впечатление – знакомство с Римским-Корсаковым, когда готовили «Ночь перед рождеством»[46]. С огромным интересом смотрел я на молчаливого, вдумчивого композитора, в его глаза, скрытые за двойными очками.
Казалось, что к нему относятся не лучше, чем ко мне, незаметному человеку.
Помню, как бесцеремонно вычеркивали целые страницы его оперы, как он морщился, протестовал, а ему с каменной настойчивостью доказывали, что если оперу не сократить, она покажется публике скучной и длинной.
Может быть, сокращающие люди были правы, потому что часто интересное представление и прекрасная музыка действительно не нравились публике, и она говорила:
– Как это скучно! Русские композиторы всегда такую тоску наводят!
Не нравилось, если в опере нет таких арий, как, например, «На земле весь род людской», – и говорили:
– Вот «Трубадур» – это я понимаю…
И вообще русская музыка была не в почете, как мне казалось. Однажды мне захотелось спеть в концерте «Трепак» Мусоргского. Эта вещь страшно нравилась мне. На репетиции у артистки, которая устраивала концерт[47], я встретил известного в то время музыкального критика. Он должен был аккомпанировать на концерте.
– Почему вы поете «Трепак»? – спросил он.
– Мне очень нравится.
– Но ведь это страшная мерзость, – сказал он любезно.
– Все-таки я спою ее…
– Ваше дело, пойте! – сказал он, пожав плечами. – Дайте мне ноты, чтоб я мог хорошенько просмотреть их дома.
Ноты я ему дал, но, не надеясь, что он способен хорошо аккомпанировать произведению, к которому относится так резко и несправедливо, я просил Длусского аккомпанировать мне на концерте.
Критик, говорили, очень обиделся на меня. На концерте, когда я спел «Трепака», мне стало ясно, что и публика не любит такие вещи.
Впоследствии, приехав в Петербург с Мамонтовской оперой, я пел в концертах ряд вещей, над которыми много работал, но критик отнесся к ним и ко мне весьма недоброжелательно. Впрочем, мне думается, что критика и недоброжелательство – профессии родственные.
В конце Пушкинской улицы, за маленькой площадью, на которой стоит крошечный Пушкин, возвышается огромное здание, похожее на цейхгауз – вещевой склад. Это – «Пале-рояль», приют артистической богемы Петербурга. В мое время сей приют был очень грязен, и единственное хорошее в нем, кроме людей, были лестницы, очень отлогие. По ним легко было взбираться даже на пятый этаж, где я жил в грязненькой комнатке, напоминавшей «номер» провинциальной гостиницы. В портьерах, выцветших от времени, сохранилось множество пыли, прозябали блохи, мухи и другие насекомые. В темных коридорах всегда можно было встретить пьяненьких людей обоего пола. Скандалы, однако, разыгрывались не очень часто. В общем же в «Пале-рояле» жилось интересно и весело. Дальский жил в одном коридоре со мною. К нему постоянно приходили актеры, поклонники, поклонницы. Он охотно ораторствовал с ними, зная все на свете и обо всем говоря смело, свободно. Я внимательно вслушивался в его беседы.
Часто бывал у нас старик Гулевич, рассказчик, живший в числе «призреваемых» в «Убежище для артистов». Это был человек своеобразно остроумный. Он сам создавал удивительные рассказы о том, как ведут себя римские папы после смерти, как Пий IX желал прогуляться по Млечному пути, что делается в аду, в раю, на дне морском. На страстной неделе Гулевич сказал мне:
– У нас в «убежище», конечно, тоже будут пасху встречать, но я приду к тебе.
В субботу он явился с какими-то узелками в руках. Я обрадовался, думая, что он принес пасхальных яств и питий для разговенья, обрадовался потому, что у меня в кармане ни гроша не было. Но оказалось, что Гулевич притащил десяток бумажных фонариков и огарки свечей.
– Вот, – сказал он, – сам делал целую неделю! Давай, развесим их, а в 12 зажжем! И будет у нас иллюминация!
Когда я сказал ему, что фонарики – это хорошо, а разговеться нам нечем, старик очень огорчился. На несчастье, дома никого не было. Дальский и другие знакомые ушли разговляться – кто куда. Грустно было нам.
Вдруг Гулевич поглядел на икону в переднем углу, подставил стул, снял ее и понес в коридор, говоря:
– Когда актерам грустно, они не хотят, чтобы ты грустил вместе с ними.
В коридоре он поставил икону на подоконник лицом к стеклу.
Вдруг является человек в ливрее и говорит:
– Вы господин Шаляпин? Г-жа такая-то просит вас пожаловать к ней на разговенье!
Эта г-жа была очень милой и знатной дамой. Меня познакомил с нею Андреев, и я часто пел в ее гостиной. Я отправился, взяв пальто у коридорного, – мое пальто заложили или пропил кто-то из соседей. В столовой знатной дамы собралось множество гостей.
Пили, ели смеялись, но я помнил о старике Гулевиче, и мне было неловко, скучно. Тогда я подошел к хозяйке и тихонько сказал ей, что хочу уйти, дома у меня сидит старик, ждет меня, так не даст ли она мне разных разностей для него.
Она отнеслась к моей просьбе очень просто, велела наложить целую корзину всякой всячины, дала мне денег, и через полчаса я был в «Пале-рояле», где Гулевич, сидя в одиночестве и меланхолически поплевывая на пальцы, разглаживал свои усы.
– Черт побери, – сказал он, распаковывая корзину, – да тут не только водка, а и шампанское!
Тотчас же принес икону, повесил ее на место и объяснил:
– Праздновать вместе, а скучать – каждый по-своему!
Мы чудесно встретили пасху, но на следующий день, проснувшись, я увидел, что Гулевич лежит на диване, корчится и стонет.
– Что с тобою?
– Черт знает! Не от доброй души дали тебе все это, съеденное нами! Заболел я…
Вдруг вижу, что бутылка, в которой я держал полосканье для горла, пуста.
– Позволь, – куда же девалось полосканье?
– Это было полосканье? – спросил Гулевич, подняв брови.
– Ну да!
– Гм… Теперь я все понимаю. Я, видишь ли, опохмелился им, полосканьем, – сознался старик, поглаживая усы.
В таких вот смешных и грустных полуфарсах проходила моя «домашняя» жизнь в «Пале-рояле», а за кулисами театра я все более чувствовал себя чужим человеком. Товарищеских отношений с артистами у меня не было. Да я и вообще не наблюдал их на сцене казенного театра.
Что-то ушло из души моей, и душа опустела. Казалось, что, идя по прекрасной широкой дороге, я вдруг дошел до какого-то распутья и не знаю – куда идти. Что-то необходимо было для меня, а что? Я не знал.
Кончился сезон. Я получил какие-то роли для изучения к будущему сезону и раздумывал, куда бы мне поехать на лето. Как вдруг пришел знакомый баритон Соколов и предложил мне ехать на всероссийскую выставку в Нижний[48]. Он восторженно рассказал мне о составе труппы, о задачах, поставленных ею, и я решил ехать.
Я еще никогда не бывал на Волге выше Казани. Нижний сразу очаровал меня своей оригинальной красотой, стенами и башнями кремля, широтою водного пространства и лугов. В душе снова воскресло счастливое и радостное настроение, как это всегда бывает со мною на Волге. Снял я себе комнатку у какой-то старухи на Ковалихе и сейчас же отправился смотреть театр, только что отстроенный, новенький и чистый.
Начались репетиции. Я познакомился с артистами, и между нами сразу же установились хорошие товарищеские отношения. В частных операх отношения артистов всегда проще, искреннее, чем в казенной. Среди артистов был Круглов, которому я поклонялся, посещая мальчишкой казанский театр.