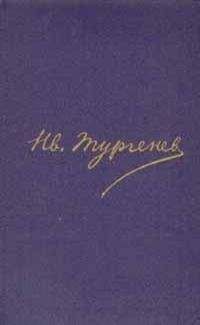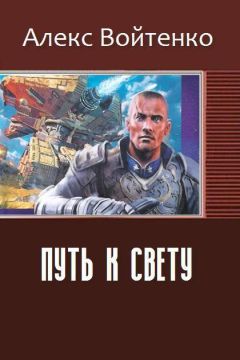Герберт Уэллс - Опыт автобиографии
«Когда я думаю о России, я представляю себе то, что читал у Тургенева и моего друга Мориса Бэринга, — пишет он в предисловии к русскому собранию сочинений 1909 года. — Я представляю себе страну, где зимы очень долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревенские дома раскрашены пестрыми красками, где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых, где много икон и бородатых попов, где плохие пустынные дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, все это и не так; хотел бы я знать, так ли это»[108].
Вряд ли было уместно говорить о русских мужиках, «беззаботных и набожных, веселых и терпеливых», после революции 1905 года, еще более удивительно было слышать это от человека, непосредственно общавшегося с Горьким, а потом с другими русскими, бывавшими или жившими в Англии, например с К. И. Чуковским или известным переводчиком Ликиардопуло, но это представление о «веселом русском мужике» стало у Герберта Уэллса предрассудком, а со своими предрассудками он не любил расставаться. З. А. Венгерова, известный литературовед и переводчица, встречавшаяся с Уэллсом во время его первого пребывания в России, писала в заметке, появившейся в те дни, что по дороге из Петербурга в Москву Уэллс был намерен заехать в русскую деревню и в том, «что он там увидит счастливую жизнь, в этом нашего гостя из Англии никак нельзя переубедить»[109].
Личный опыт, по-видимому, оказался убедительней слов. После поездки в деревню Вергежа Новгородской губернии Уэллс больше никогда не говорил о «веселом русском мужике, терпеливом и набожном».
Когда Уэллс выразил желание побывать в русской деревне, Ариадна Тыркова направила его к своему брату Аркадию Владимировичу Тыркову, у которого было имение в Вергеже. Уэллс и Тырков вместе ходили к крестьянам и расспрашивали их о жизни. Тырков был народовольцем, участником покушения на Александра II, успевшим отбыть двадцать лет на каторге и в ссылке, где познакомился с Лениным. Трудно сказать, что почерпнул Уэллс из общения с Тырковым и из двухдневного пребывания в деревне. Сам он не оставил никаких свидетельств на этот счет, но, во всяком случае, старое представление о русской деревне с той поры исчезает из его произведений. На смену ему придет другое, куда менее радужное. Уэллс осознает всю важность крестьянского вопроса для России и впоследствии, в разговоре с Лениным, выскажет мнение, что психология русского крестьянина может оказаться главным препятствием в строительстве нового общества. Из всех планов большевиков, как он вскользь отметил в заметке о Ленине, опубликованной в 1924 году, его интересовал в первую очередь крестьянский вопрос.
Сейчас трудно восстановить многие и, возможно, существенные, детали пребывания Уэллса в Петербурге и в Москве в 1914 году. Попытки подобного рода предпринимались только в 60-е годы[110], когда немало свидетельств, надо думать, было уже безвозвратно утеряно, но и то, что известно, представляет интерес. В Москве Уэллс побывал на вечере одноактных балетов в Большом театре (танцевала Гельцер), в Третьяковской галерее и, наконец, на «Трех сестрах» и «Гамлете» в Художественном театре. Эти два спектакля привели его в совершеннейший восторг. После «Трех сестер» он прошел за кулисы и стал уговаривать Станиславского, Книппер-Чехову и Немировича-Данченко привезти чеховские спектакли в Лондон. Свое восхищение Художественным театром — а заодно и его публикой — он выразил потом в романе «Джоанна и Питер»[111].
Старина не привлекала его. День в Троице-Сергиевой лавре (23 января) — вот и вся дань, отданная ей Уэллсом. Другие предложения осмотреть памятники старины он отклонил, зато его интересовали люди. Весь первый день в Москве он провел на улицах, потом ездил на Хитров рынок, ходил в ночные чайные. Инкогнито, разумеется, долго соблюдать не удалось. Уже через два дня, 15 января, в либеральной газете «Речь» появилась беседа Уэллса с В. Д. Набоковым, в то время известным журналистом[112]. После этого он все время был на виду. Его тепло приветствовали, от него требовали интервью. Всероссийское литературное общество преподнесло ему адрес (лежавший потом на видном месте в кабинете писателя). Каждый день чуть ли не с утра Уэллс беседовал и спорил с людьми, но в любых обстоятельствах он пытался как можно больше сам увидеть, запомнить и узнать.
Все это по-своему важно. Когда Уэллс снова появился в Москве и Петрограде в 1920 году, он уже не смотрел на эти города глазами иностранца, ищущего живописные приметы «русской жизни». Экзотика вообще мало интересовала Уэллса, в России тем более, — он стремился докопаться до сути происходящих здесь процессов.
Шесть лет между первой и второй поездками Уэллса в Россию были годами крупнейших мировых потрясений. Поколение, к которому принадлежал Уэллс, ожидало их, и он лучше других выразил это смутное предчувствие в своей «Войне миров» (1898). 20-е столетие было чревато грандиозными переменами, и Уэллс, человек, которого многие читатели воспринимали как пророка, еще на пороге века заявил твердо и определенно: единственный выход для человечества, если оно хочет избежать ловушек, расставленных перед ним историей, — это социализм. К такому выводу он подводил читателя в уже упоминавшемся «Будущем Америки» и написанной вскоре книге «Новые миры вместо старых»[113]. Уэллс никогда не был «социалистом по Марксу». Скорее он относил себя к числу домарксовых, утопических социалистов. Тем не менее о создателе «Капитала» английский писатель говорил в этот период с большим уважением. Маркс первым поставил социализм на историческую основу, утверждал он в «Новых мирах вместо старых»[114]. Однако все это не мешало ему спорить с Марксом, настаивавшим на неизбежности классовой борьбы и революции. При современных условиях, с точки зрения Уэллса, агитация социалистов и усилия разумных людей могут привести к социализму без всяких классовых конфликтов, а, поскольку классовую борьбу он отрицал, оставалось ждать каких-то других общенациональных или мировых катаклизмов, способных изменить мир.
И предвестником гибели буржуазной цивилизации, на развалинах которой будет построено новое общество, стала для Уэллса надвигающаяся война. В 10-е годы XX века он уже не называет гипотетическое новое общество социалистическим, слово «коллективистское» кажется ему более подходящим. Во всяком случае, он понимает, насколько неизбежная война по своим социальным последствиям будет непохожа на предыдущие.