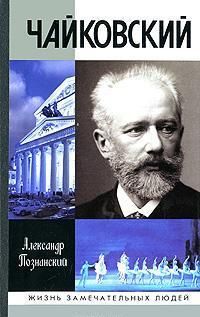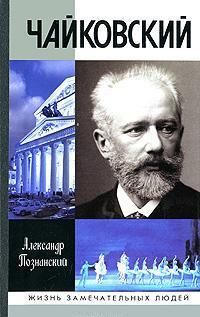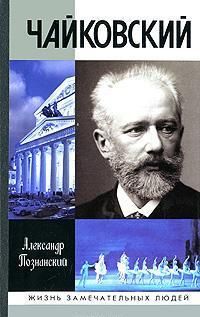Александр Познанский - Чайковский
Из более дальних друзей верность композитору всегда хранил его ученик, композитор и музыкант, Сергей Танеев (1856–1915), часто мысленно возвращавшийся к спорам со своим учителем о смысле творчества. Летом 1896 года он побывал в гостях у Льва Толстого в Ясной Поляне, где много беседовал с ним о религии, музыке, литературе. После отъезда Танееву приснился странный сон, произведший на него сильное впечатление. Сон был о музыке, и он тотчас же записал его в дневнике: «Я видел Петра Ильича, который вспоминал что-то из своих сочинений и не мог припомнить. Алексей и еще какой-то его служитель играет в четыре руки, но все, что они играют, совсем не то, что П. И. вспоминает. Я подхожу к фортепиано и тоже не могу припомнить. П. И. говорит, что Вторая симфония его не удовлетворяет; я отвечаю, что считаю ее финал одним из chef-d’oevre’oB нашей музыки и начинаю играть вторую As-dur’Hyio тему. Фортепиано имеет две клавиатуры. Затем мне представились музыкальные мысли Петра Ильича в виде живых существ, носящихся по воздуху. Похожи они на кометы — они сияют и живут. Под ними люди, про которых я знаю, что это будущие поколения. Мысли эти входят в голову этих людей, движутся, извиваются и, несмотря на протекающие века (мне казалось, что передо мной проходят столетия), остаются такими же живыми и сияющими, но это только некоторые из музыкальных мыслей Петра Ильича: 2-я тема “Ромео”, “Нет, только тот кто знал” — других не помню. Прочие же не остались жить, я сознаю, что они исчезли, и понимаю, что это не истинные создания, — произведения, написанные не по вдохновению; вижу, что разным мыслям суждена разная долговечность. В стороне направо я видел, что движутся мои собственные мысли, в одеждах античных, как ряд призраков бескровных и безжизненных. Я понимаю, что они существуют в таком виде потому, что я создавал их не с достаточным участием, и в создании их было мало искренности, что это не из души вышедшие мысли. Я припоминаю слова Льва Николаевича о значении искренности в художественном произведении и просыпаюсь, страшно потрясенный, и начинаю рыдать, вспоминая о своем сне».
Две глубинные темы контрапунктом проходят через этот довольно необычный текст. Первая из них — о значении Чайковского для будущего. Одной из примечательных черт его композиторской судьбы было, как мы видели, недопонимание и недоценка современниками, при первой реакции на них, именно тех его созданий, которые ныне признаны безусловными шедеврами — Первого фортепьянного концерта, опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» и, наконец, Шестой симфонии. Эстетически Чайковский опережал свое время по крайней мере на поколение, и не случайно ряд музыковедов, как в России, так и за рубежом, по существу, относят его творчество уже к эпохе Серебряного века, и по сей день остающейся для нас центральной в новейшей истории русской художественной культуры. И еще одна важная мысль явствует из танеевского описания сна, с которой нельзя не согласиться, тем более сегодня, когда «искусственное» становится определяющим в нашем представлении об искусстве. Благородным контрастом с этой сомнительной установкой выступает «живая и сияющая» музыка Петра Ильича Чайковского, способная взволновать даже самого неподготовленного слушателя, ибо ее источником служила предельная искренность переживаний. Отсюда — универсальность его гения, который по праву может быть назван «гением чувств».
Творчество композитора в России удостаивалось признания, но медленно, и процесс этот был сложным, долгим, не лишенным теневых сторон, даже в исполнении музыка его нередко искажалась в угоду времени, моде или плохому вкусу. «Девяностые годы наложили на творчество Чайковского печать ложного крикливого пафоса, — полагал композитор и критик Борис Асафьев. — Столичные салоны и провинция окончательно утвердили и еще утрировали этот “фишеровский” стиль. Трагизм музыки Чайковского исчез бесследно, заслоненный патокой сентимента, ее чисто русская задушевность и простота подавлены были никчемным “цыганским пошибом”». Это неверное и неполное восприятие музыки Чайковского отпадало постепенно, и посмертная судьба его претерпела в XX веке неожиданные повороты.
В начале столетия в расцвет деятельности «Мира искусства» его сознательно стремились забыть, представляя недавнее прошлое русской музыки как «культ Чайковского, культ исключительный, пристрастный до нетерпимости» и выдвигая ему в противовес композиторов-националистов «Могучей кучки». Поэт Михаил Кузмин претенциозно рисовал облик композитора как «пассивно интеллигентский, элегически чиновный, очень петербургский 90-х годов, немного кислый». Слышались, впрочем, и другие голоса из того же лагеря. Так, Александр Бенуа восхищался «глубоко романтическим оттенком оперы “Пиковая дама”» и «магической, нежнейшей и тончайшей музыкой» «Спящей красавицы» и «Щелкунчика». Скрябин, сам отдавший некогда дань влиянию Чайковского, отверг его по достижении зрелости. Музыка, по его глубокому убеждению, должна была выражать только состояние чрезвычайное, особенное, экстатическое. «У Чайковского слишком обывательская натура», — утверждал автор «Поэмы экстаза(». «Чайковский любит, ценит, чрезвычайно рельефно выражает оформленные чувства… <…> он не берет эмоций слишком возвышенных, ни слишком низменных, но всегда останавливается на “среднечеловеческих” переживаниях», — вторил Скрябину критик В. Г. Каратыгин.
Борьба с Чайковским в дореволюционный период порой принимала формы настолько крайние, что вызвала в свою очередь протесты и обвинения в пристрастности. Однако существенно, что сказанное относится главным образом к музыкально-критической оценке творчества композитора. Мнение же основной массы его слушателей оставалось иным, и концерты из его произведений посещались с прежним энтузиазмом. Поостережемся совершать привычную ошибку и увидеть в массовой популярности непременное явление массовой культуры. В таком случае, масскультурой пришлось бы объявить и Шекспира, отвергнутого высоколобой критикой классицизма и Просвещения, а в относительно недавние времена — такими корифеями, как Лев Толстой или Бернард Шоу, притом что во все эпохи Шекспир ставился с великим успехом в любом провинциальном театре. Разрыв между оценками Чайковского с двух сторон — публикой в концертном зале и теоретиками-му-зыковедами — факт, однако, сам по себе примечательный. Разрыв этот, сложная природа которого в принципе заслуживает специального рассмотрения, сопровождает представление о нем и по сегодняшний день.
После революции 1917 года композитор так же пришелся не ко двору. Он был объявлен идеологом гибнущего русского дворянства, его музыка — пессимистичной, а влияние ее — разлагающим. «Музыка Чайковского гнетет и расслабляет душу. Напряженный симфонизм Чайковского и напряженность колебаний революции — какие несовместимые понятия! — писали о нем критики в 1923 году. — Одно ясно: сейчас, в наше время, в век напряженной героической борьбы… содержание творчества Чайковского кажется таким далеким, чуждым и неприемлемым». В постановлении Совета народных комиссаров от 30 июля 1918 года о памятниках великим деятелям социализма и революции в графе «композиторы» указывались лишь три фамилии: Мусоргский, Скрябин и Шопен. В этой ситуации появление улицы в Петрограде, названной в честь композитора, было каким-то недоразумением.