Алексей Игнатьев - Пятьдесят лет в строю
К сожалению, эта единственная нить, соединившая на мгновение с родиной, тут же и надолго порвалась. Французская военная цензура телеграммы из России больше не пропускала. Вокруг Советской России были поставлены «проволочные заграждения».
«Часовой у денежного ящика», ставший на пост в день падения русской монархии, остался стоять на этом посту один, без связи даже с собственным караулом и как раз в тот момент, когда к охраняемым им денежным суммам стали сперва приглядываться, а затем и претендовать на них прежде всего те, кто был знаком с содержанием этих ящиков.
Обстановка осложнялась тем, что с первого же дня Октябрьской революции старшие русские начальники подали пагубный пример младшим, вмешивая французов в наши дела.
— Представьте, Владимир Александрович, или, скажем, Николай Александрович, или такой-то… какой ужас, — говорил я в своем служебном кабинете каждому из наших генералов, глядя прямо в глаза, — помощник начальника генерального штаба генерал Видалон, жалуясь на поведение нашего офицерства, рассказал мне, что пять из находившихся в Париже русских генералов написали французам доносы друг на друга.
А всего ведь нас, генералов, как будто было шесть человек! Русский правящий класс лишний раз наглядно показал всю глубину своего разложения.
— Да, это действительно ужасно! — вздыхая, отвечал мне каждый из моих собеседников.
А я после этих бесед поставил себе целью ликвидировать мой комитет, состоявший уже из трехсот непрерывно грызущихся друг с другом бездельников, да так, чтобы не вызвать с их стороны ни одной жалобы французам.
Французского контролера удалось убедить, что для инвентаризации всех грузов и отчетов по заказам мне необходимо сохранить весь русский персонал до 1 января 1918 года, после чего выдать всем трехмесячное жалованье по русским окладам, превосходившим французские более чем в шесть раз. Примера ради, от собственного недополученного жалованья пришлось отказаться.
После этого для окончательной ликвидации и составления отчетов — оперативного, финансового, по русским войскам и по морским перевозкам — я временно оставил при себе лишь трех-четырех ближайших сотрудников, с которыми я когда-то начал дело, и пять писарей для составления общего документального «Отчета о деятельности военного агента во Франции с 1912 по 1918 год». Мы работали над этими документами, стремясь выполнить наш долг до конца.
С моего тонувшего корабля бежали, как крысы, многие напуганные революцией и в панике потерявшие вместе с золотым погоном честь офицеры. Писаря же, скромные переписчики моего отчета, — Волков, Найченко и другие — сами не сознавали, какую великую нравственную поддержку они мне оказывали своим добросовестным отношением к служебным обязанностям: когда при окончании ликвидации им стали предлагать перейти на работу в посольство, превращавшееся постепенно в белогвардейское представительство, они не соблазнились ни положением, ни более высоким окладом и все как один человек ответили:
— Мы с нашим генералом во Францию приехали, только с ним и вернемся на родину!
Тяжко мне было не иметь возможности объяснить этим простым хорошим русским людям то, что в действительности происходило в России. Трудно даже теперь верится, что я впервые увидел портрет самого Ленина и прочитал о нем статью лишь 22 декабря 1917 года в сохраненном мною и по сей день номере журнала «Иллюстрасион». Как пришлись по сердцу моим скромным сотрудникам приведенные тогда слова Владимира Ильича о возможности пролетариату по собственной инициативе ликвидировать несправедливую войну превращением ее в гражданскую.
Между тем осенью 1917 года французские газеты печатали страшные вести о России. Они старались убедить, что большевики стремятся отстранить народ от управления страной. Власть, по их словам, будто бы захватила «небольшая группа политических утопистов», представлявшихся «Горой» времен французской революции.
Никому из русских, прибывавших в Париж, не приходило в голову опровергать подобные нелепости, получаемые прямехонько от французской военной миссии в России. Возможностей для протеста, правда ни у кого из нас не было: французская военная цензура становилась с каждым днем все более грозной.
«Taisez vous! Mefiez vous! Les oreilles ennemies vous écoutent!» («Молчите! Опасайтесь! Вражеские уши вас подслушивают!») — читалось и в вагонах метро, и на стенках кафе.
От этого лозунга укрыться было некуда, и русская военная миссия, возглавлявшаяся военным агентом, могла лишь стремиться все более отмежеваться от всех остальных русских организаций в Париже.
Это, однако, и представило наибольшую трудность.
— Самое важное для вас, русских, — это держаться друг за друга, — советовали мне французские офицеры Гран Кю Жэ.
— Я, пгавда, не вмешиваюсь в ваши дела, — твердил мне в другое ухо Маклаков, — но все же вы, как военный агент, не можете отказаться от солидагности с посольством.
Приходилось отмалчиваться, страшиться каждого телефонного звонка, дабы избежать объяснений с хитроумным адвокатом-послом.
Добровольная и все более глубокая моя отчужденность от прежних посольских сослуживцев, негодовавших на Октябрьскую революцию, все же меня смущала.
— Правильно ли я поступаю, действуя на свой личный страх и ответственность? — спросил я при встрече прибывшего из России графа Коковцева, с которым приходилось нередко видеться в Петербурге.
Равнодушно меня выслушав, бывший царский премьер, считавшийся в петербургской кунсткамере хоть и не самым талантливым, но мудрым государственным мужем, глубокомысленно изрек:
— На вашем месте, граф, я взял бы отпуск!
Это было уже незамаскированное стремление совершенно устранить меня от работы.
Сам Коковцев использовал «предоставленный» ему Октябрьской революцией «отпуск», чтобы занять кресло в парижском филиале Русского для внешних сношений банка, который был одним из каналов, питавших подготовку будущей иностранной интервенции в России.
* * *Первым серьезным экзаменом для независимого положения, занятого русской военной миссией, явился Брест-Литовский мир.
Вместо обычного телефонного звонка посольство выслало на этот раз повестку с приглашением принять участие в митинге, организуемом «всей русской колонией» для публичного выражения протеста против «большевистского» мира.
Из этого для меня стало ясно, что пресловутый митинг, организованный самим Маклаковым и прочими прихлебателями французского министерства иностранных дел, являлся лишь предлогом антисоветской пропаганды. Решение я принял бесповоротное: русские военные на этот митинг не должны идти.



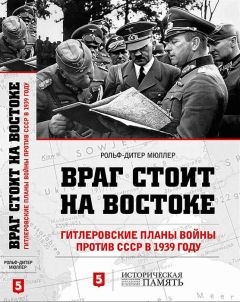
![Алексей Рюриков - 10 июня 1941 года [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)