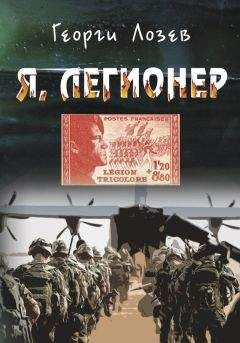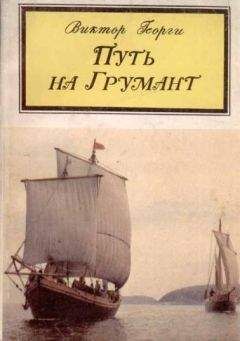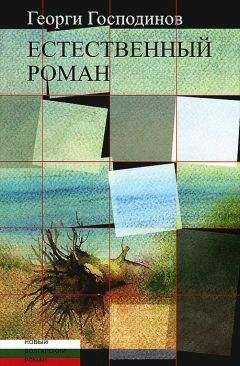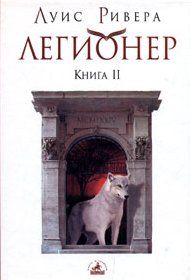Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга первая
Случалось, что мама произносила такие же фразы и раньше, но когда угроза кончины придвинулась вплотную, когда она заболела тем недугом, который ее свел в могилу, то эти предчувствия получили большую отчетливость. Забота же о близких обострилась в чрезвычайной степени. Она хорошо знала полную деловую беспомощность папочки и поэтому спешила привести в порядок те дела, которыми она лично заведовала. Дяди Кости, ее главного советчика, при ней уже не было, но теперь помогли советами ее зять, М. Я. Эдвардс, и наш свойственник, архитектор Фурман (который был женат на дочери дяди Лулу — старшего брата отца). В частности, свою заботу обо мне мама недели за две до кончины выразила в том, что она пожелала заплатить те долги, которые я понаделал — исключительно на почве книгомании. В книжных магазинах Эриксона на Вознесенском и Вольфа в Гостином дворе я забирал книги пудами, не имея сил устоять перед соблазном войти в обладание того или иного труда по истории искусства — особенно тогда, когда такой труд был богато иллюстрирован. Счета в обоих магазинах выросли до таких сумм, что мне становилось все более и более стыдно в них признаться, особенно ввиду того, что на свои прихоти я получал вообще гораздо больше, чем все мои товарищи. Но в этом (последнем) разговоре мама добилась-таки того, что я покаялся в своих грехах, и, слегка пожурив меня, она тут же выдала мне на руки всю сумму, присовокупив, чтобы я вперед, когда ее не будет, был более благоразумным. Увы, эту ее просьбу я не исполнил и от данного порока не избавился и по сей день.
Как ужасно я ошибся, когда истолковал приговор консилиума в оптимистическом смысле, воображая, что перед нами еще несколько месяцев совместной жизни с мамой, а там, Бог даст, она и совсем поправится. Вечером того же дня мамы уже не стало…
Она продолжала лежать одетая на диване в кабинете. Было около девяти часов; казалось, что мама тихо отдыхает, вся же остальная семья собралась в соседней столовой вокруг чайного стола, причем я был занят разглядыванием только что полученной от Вольфа книги. Все говорили полушепотом, чтобы не будить маму, не прерывать ее благотворного сна. И тут-то уютную тишину прорезал дикий, какой-то свирепый вопль. Это не был крик, а это был нечеловеческий звук, более всего похожий на тот, что получается, когда разрывают полотно. Все обомлели и не знали, что подумать. Но сомнения не оставалось, звук исходил из кабинета, его произвела наша тихая, терпеливая, выносливая мамочка! Звук выражал какое-то чудовищное страдание. И все поняли, что это Смерть расправляется со своей жертвой; Смерть душила нашу обожаемую, и не было никаких средств помочь, отогнать страшную гостью. Когда мы ринулись в кабинет, то мамочка была еще жива, и она с выражением ужаса на лице обвела нас глазами… после чего как-то съежилась и затихла. Мамы с нами более не было.
И как странно, что, переживая этот самый трагический момент своей жизни, точнее, свой первый действительно трагический момент, я все же не утратил сознания того, что вокруг меня происходит. Я даже успел удивиться тому, что это так, и что мои глаза не наполняются слезами, тогда как у меня на плече рыдала сестра Катя. Мне казалось, что я как-то отодвинулся в сторону и гляжу на какую-то сцену, прямо до меня не касающуюся. В этом было что-то мучительное и уродливое. Я бы хотел, чтобы меня одолело горе, но эта реакция медлила явиться — я точно весь окаменел. И вдруг блеснула мысль — а что, если еще не все потеряно, если еще можно вернуть к жизни мамочку. Скорей доктора! Ближайшего!.. Я как раз случайно запомнил адрес какого-то доктора на углу Торговой и Мастерской, к нему я и помчался пешком, не теряя ни минуты, даже на то, чтобы одеть пальто. Но доктор, услыхав мой рассказ, промолвил: «очевидно, смерть от удара». Все же он уступил моей мольбе и последовал за мной. Но ни малейших признаков жизни не оставалось, и тело успело остынуть. Та, которая меня родила, частью которой я когда-то был, наша обожаемая, столь отзывчивая, столь заботливая, столь любящая и жизненная мамочка — была теперь бездыханным трупом.
И сразу, как только доктор констатировал несомненную смерть, мамой стали распоряжаться, как какой-то вещью. К счастью, то выражение, которое несколько исказило ее милые черты в момент смерти, сгладилось… Поразило меня, что, как шестнадцать лет до того, когда умер брат Иша, папочка и теперь не плакал, а между тем для него кончина верной и обожаемой подруги жизни означала конец всякого земного счастья. И как тогда, папа и теперь, вероятно, чтобы отвлечься, сразу занялся устройством последнего ложа мамочки, на сей раз в зале. Уже через час его Камилунза, одетая в шелковое сиреневое платье (перешитое из перекрашенного подвенечного) лежала на большой доске, положенной на два табурета и задрапированной простынями, а в головах папа и на сей раз установил большое скульптурное распятие, висевшее обыкновенно в спальне. В ногах горели в бронзовых шандалах свечи.
Тут произошла еще одна раздирающая сцена. Кто-то из близких (вероятно, Женя Лансере) съездил в Малый театр, чтобы сообщить бабушке печальную весть. Как раз на сцене Элеонора Дузе переживала горькую судьбу Маргариты Готье, и драма близилась к концу! Бабушке не суждено было увидеть этот конец — мама сдержала слово: она показала нам, «как умирают». На звонок приехавших из театра отворил дверь я. Но бабушка не сразу вошла, а как-то попятилась и замахала на меня руками. «Нет, нет, — приговаривала она, — это неправда, она жива. Камиль не могла умереть!» Когда же она убедилась, видя наш сокрушенный вид, что больше ни надежд, ни сомнений нет, она резко повернулась, точно собираясь пуститься в бегство, а затем в полуобмороке опустилась на подоконник лестничного окна и там зарыдала…
Мне было приятно, если вообще что-либо могло быть в такие минуты приятно, что вместе с бабушкой прибыл ее внук, сопровождавший ее в театр, Сережа Зарудный. Несмотря на разницу лет между нами, мы за последние годы очень сблизилась. За семейными обедами я норовил всегда оказаться рядом с ним. Видимо, и он был заинтересован своим молодчиком кузеном. Он недавно окончил Правоведение и теперь уже состоял на службе. В наших беседах будущий прокурор сказывался в том, что Сережа охотно переходил на тон своего рода допроса, задавая мне иногда и очень недискретные, смущавшие, а то и злившие меня вопросы. С другой стороны, эта его манера располагала меня сводить нашу беседу на темы более задушевного или даже покаянного характера, это отвечало моей тогдашней потребности выяснять себя, изливаться… Некоторое преимущество Сережи перед моими друзьями заключалось в самом факта его близкого родства — в том, что он знавал меня «всегда», с незапамятных времен и в нашей, обычной для обоих семейной обстановке. И вот в этот ужасный… самый ужасный из пережитых мной вечеров, появление Сережи оказалось если не утешением, то каким-то отводом. Пока шли печальные приготовления, пока мамочку, при жизни не терпевшую посторонней помощи, мыли и одевали, я с Сережей удалились в мою комнату и завели привычную беседу. И на сей раз он не совсем бросил свой прокурорский тон, не обошлось и без свойственных ему (или вообще русским людям?) бестактных расспросов; он не уставал доискиваться, как именно все произошло, в чем именно выразилась агония, как отнеслись к смерти папа и мы все. И вот даже наименее тактичные вопросы оказывали на меня своего рода благотворное действие, они помогли мне излиться, мой подробный рассказ Сереже как бы заменил те слезы, которые так и не явились в облегчение давившему меня горю.