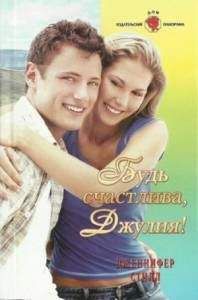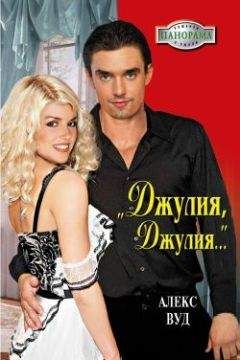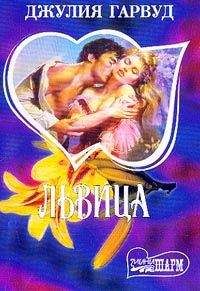Алексей Зверев - Лев Толстой
Вот и в «Докторе Живаго» ориентация на Толстого мирно соседствует с другими традициями — Достоевского, Скрябина, Блока. О толстовской составляющей в романе хорошо сказал сам писатель: «Единство нравственного и физического мира в „Докторе Живаго“ — это от Толстого, это его принцип».
Философия истории, концепция исторического развития человечества в романе Пастернака вобрала философию истории, развернутую в эпопее «Война и мир», став ее свободным продолжением, на что непосредственно обращается внимание в тексте (мысли об истории и ее движущих силах, растительном царстве, революции): «Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всей ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры — это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, многие годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне».
Толстой был особо почитаем в семье Пастернаков, домашним божеством. Отец поэта и иллюстратор его произведений, художник Леонид Пастернак, в письме А. Сергеенко образно выразил это постоянное благоговейное отношение к Толстому: «У меня какое-то особое чувство всегда было к нему, какое-то благоговение, что ли, я и сам не знаю, и это с первой минуты знакомства: сидел бы и смотрел только на него, следил бы его — ни разговаривать с ним не хочется, ни чтобы он говорил, а только смотреть или скорее, глядя на него, внутренне в себе выражать его „стиль“, его всего, — монументальным его выражать… Как явление природы он для меня всегда. Что-то в нем есть стихийное».
Борис Пастернак всю жизнь оставался верен этому семейному культу Толстого. И. Берлину он охотно рассказывал, что «вырос в тени Толстого, с которым хорошо был знаком его отец. Поэт считал Толстого несравненным гением, более великим, чем Диккенс и Достоевский, — писателем ранга Шекспира, Гёте, Пушкина. Отец, художник, взял его в Астапово в 1910 году, чтобы взглянуть на Толстого на смертном одре. Сам он не мог критически относиться к Толстому — Россия и Толстой были нераздельны».
Но Пастернак часто и интенсивно размышлял о гипнотическом стиле Толстого, о его «парадоксальности, достигавшей» оригинальности, о горевшей в нем, художнике и человеке, созидательной страсти, о неповторимых и уникальных особенностях его видения мира и человека, об исповедальных пластах его гениальных произведений. В блестящем большом эссе «Люди и положения» Пастернак в четкой концентрированной форме формулирует свои многолетние размышления о Толстом:
«Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной окончательности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях, в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.
Для того чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.
Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел всё в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема».
Не прямо, подспудно поясняется Пастернаком, что ориентация писателя Нового времени на Толстого-художника может быть только свободной, так как нельзя механически воспроизводить «приемы», родившиеся спонтанно, путем проб и озарений. Высшее напряжение страсти — явление сугубо индивидуальное, «чудесное». Никакая «литературная учеба» здесь не поможет. Да и не сумма этих писательских приемов, много раз описанных и исследованных, определяет значение Толстого для XX века и его вклад в развитие человечества, который вовсе не ограничивается сферой искусства. Пастернак считал, и с его мнением можно только согласиться, что «главное и непомернейшее в Толстом, то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художнического своеобразия (а может быть, и составляет именно истинное его существо), — новый род одухотворения в восприятии мира и жизнедеятельности, то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства».
Это не абстрактное умозаключение, а то, что выстрадано поэтом лично, так как «главное и непомернейшее… стало и по сей день остается основою» его существования, «всей манеры… жить и видеть». Но одновременно этот вывод касается всех, в том числе и тех, кто открещивается от влияния Толстого. «Я думаю, — писал Пастернак, — что я в этом отношении не одинок, что в таком положении находятся люди из лагеря, считающегося нетолстовским, то есть я хочу сказать, что, вопреки всем видимостям, историческая атмосфера первой половины XX века во всем мире — атмосфера толстовская». Видимо, эти слова Пастернака с некоторыми вполне естественно возникающими оговорками можно отнести и ко второй половине века, и первым мгновениям третьего миллениума. Об этом говорят и успехи экуменического движения, у истоков которого стоял Толстой с его попыткой создать универсальную религию для всех, с его мечтой о чистом и толерантном мире без войн, угнетения, принуждения. Всё большую поддержку и отклик в мире получает и борьба писателя со всеми видами одурманивания человечества (в частности, с курением), растут ряды и вегетарианцев (во времена Толстого как только не измывались над этим его «чудачеством», Ленин упоминал язвительно рисовые котлетки, которыми питался граф, «юродствующий во Христе»).
Труднее, разумеется, представить судьбу Толстого в XXI веке. Вполне возможно, как считает американский славист и автор переведенной на русский язык книги о Толстом Ричард Густафсон, что в будущем произойдет переоценка как Толстого-художника, так и идей Толстого-моралиста. По его эмоционально высказанному мнению, новому столетию нужен не постмодернистский Толстой, а Толстой — провидец наших бед, изобличитель повсеместно разлитого зла, бесстрашный и бескомпромиссный борец с любыми формами насилия, произвола, лицемерия: «Толстой призывает нас к обновленному чувству ответственности за зло в мире, побуждает нас прежде всего обратиться к себе, прояснить собственные чувства… Я думаю, что эта истина важна как для отдельных людей, так и для рас, этнических и религиозных групп, наций».