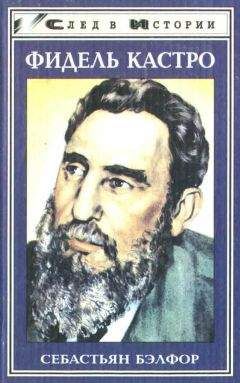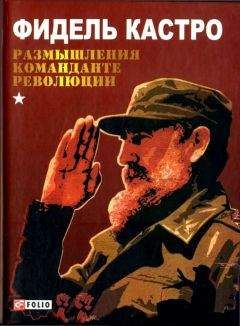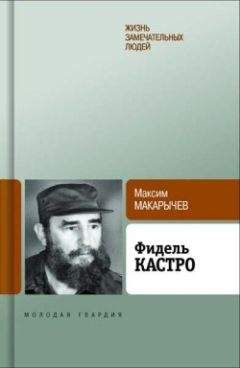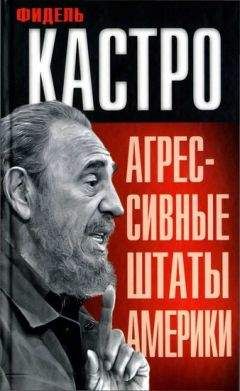Алексей Кулаковский - Добросельцы
- Никто на тебя не ополчался, - спокойно заметила Даша. - Говорили то, что думали.
- Всё припомнили, - без злости сказал Мокрут и снова глубоко втянул голову в воротник, умолк.
Даше показалось, что он пошел немного бодрее, и это принесло облегчение. Скорей бы дойти, а там уж как хочет. Захочет выговориться найдет охотников послушать, а потянет его на молчаливое одиночество сыщется место и для этого. Посмотрела в сторону Добросельцев и обрадовалась: сквозь жидкую сетку тумана пробивался свет фонаря, снова горевшего у околицы. Значит, уже недалеко. Но вышло так, что и Мокрут, пожалуй, в то же самое время разглядел фонарь и не прибавил шагу, как ждала Даша, а, наоборот, стал заплетать ноги. Она пошла быстрее, надеясь расшевелить и его, но Мокрут, хрипло откашлявшись, попросил:
- Не беги так, Даша. Еще ведь не поздно.
И, поравнявшись с нею, вдруг завел речь о том, что она должна поговорить с ним, поговорить, забыв про все, что произошло в последнее время, словом, так, как они не раз говорили за минувшие годы.
- Мне, может, и надо бы обижаться на тебя, - продолжал он тихим дрожащим голосом, - но сегодня - не могу. Не знаю, как будет дальше, но пока у меня нет обиды ни на тебя, ни на других. Вот сидел под мельницей, все вспомнил, обо всем передумал. Много правды было высказано на собрании. Однобоко я как-то жил, и глаза мои смотрели больше в одну сторону, в свою сторону. Были люди вокруг меня, а я их не замечал и не знал. И тебя не знал. Ты для меня была всего-навсего хорошенькой девчонкой, как Василь Печка покладистым и безответным малым. Замечал я, бывало, только тех, кто, хотел он этого или не хотел, становился у меня на пути. С ними я легко разделывался. Говорю - легко, потому что это мне действительно удавалось.
- До поры кувшин... - начала было Даша, но Мокрут не дал ей договорить.
- Вот когда-то и моя мать так же... Я еще пацаном был. "Почему ты все сам да сам? Так век не проживешь". А я гордился тем, что "сам". Я один был у матери, отца, ты же знаешь, давно нет, помер. Я его и помню-то плохо. Мать, известное дело, не слушал, а теперь мне уже в который раз вспоминаются те ее слова. Эх, мама... В последний раз видел ее в конце сорок третьего года. Пришел ночью домой из отряда. Вот эта кожанка была на мне, тогда еще совсем новая, добротные хромовые сапоги, кубанка с красной лентой. Сел за стол и нечаянно задремал. Мать при лампе расстегнула мне воротник да как заплачет! Я испугался, вскочил. А это рубашка у меня под кожанкой и гимнастеркой была так заношена, так давно не стирана, что мать в ужас пришла. Она к сундуку, чтобы достать мне чистую, а в это время на улице какой-то топот. Я шмыгнул в сени и уже больше не вернулся, немного погодя пробрался в лес. А назавтра мать, ты знаешь, положила в узелок белье, еще там кое-что и поздним вечером пошла в лес искать кого-нибудь из наших, чтобы передали мне все это. Наткнулась на засаду, бросилась бежать, ну и... Я едва пережил, когда узнал. Ну какой черт понес меня домой? И сейчас этот груз у меня на душе, особенно сегодня. Тебе одной скажу, что и заходил я тогда не столько, чтобы проведать маму, помочь ей чем-нибудь, одинокой, сколько показать, каким я стал бравым. Теперь простить себе этого не могу...
Мокрут замолчал, тяжело, взволнованно засопел, но Даша не воспользовалась паузой, чтобы что-нибудь сказать. Она чувствовала, что Мокрут говорил искренне, но настолько была потрясена его рассказом, что просто растерялась. Казалось, никогда прежде не слышала от него таких слов, а может, и слышала, да всерьез не принимала.
Снова Мокрут заговорил уже у околицы:
- Перед тобою я тоже виноват. Много тебе зла причинил этой дурацкой выдумкой насчет Василя. Я, конечно, знал, что ты здесь ни при чем, да вот же... Хочешь, я напишу обо всем Володе? Чистую правду напишу.
- Не надо, - тихо ответила Даша, - без тебя напишут.
- Ну, тогда бывай здорова, - сухо сказал Мокрут, останавливаясь напротив Платоновой хаты и протягивая Даше руку. - Спасибо, что прошлась со мной, не сбежала.
- А ты-то куда? - спросила Даша, заметив, что он не собирается идти домой.
- А во-о-н, видишь? - показал Мокрут на домик мельника. - Там еще свет горит. Пойду туда...
XVII
Сессия сельсовета должна была состояться вскоре после партийного собрания, однако по разным непредвиденным причинам все откладывалась и откладывалась. Эти причины чаще всего были связаны с Мокрутом, которому хотелось затянуть дело. То он вдруг исчезал на несколько дней, а в сельсовете просил сказать, что уезжает зачем-то в город, то прикидывался больным. Были, видно, у него какие-то свои расчеты. Возможно, жила надежда, что все перетрется, перемелется и забудется, а может быть, велась подготовка, чтобы вообще добиться оправдания.
Наконец Павел Павлович как представитель райисполкома твердо определил день. Поскольку ни в Добросельцах, ни в Червонных Маках клуба еще не было, сессия проходила в школе, в том же классе, где не так давно было партсобрание. Тогда, с партийного собрания, Лявон Мокрут ушел самым первым, теперь же, с сессии, - самым последним. Если бы не пришла уборщица и не стала звенеть ключами, то бывший председатель, видно, и ночевал бы в школе.
Улица уже была пустынна, когда Мокрут, сгорбившись, пробирался вдоль заборов. Он прикидывал, куда бы это пойти, чтобы побыть одному, так как ни встречаться с кем бы то ни было, ни разговаривать ему не хотелось. Вспомнил, что можно еще зайти в сельсовет, что формально он еще имеет такое право. Опустил руку в карман кожанки, нащупал там два связанных бечевкой ключа. Уж такими холодными и скользкими показались ему эти ключи! Взять бы их да выбросить в снег: пускай те, кому это нужно, взламывают кабинет. Ключи тонко, как-то даже скорбно дзынькнули, когда Мокрут доставал их из кармана. Невольно пришел на память звон ключей у уборщицы. Как посмотрела эта женщина на него, бывшего председателя сельсовета! Сразу было видно, что, если бы он не встал, не поспешил одеться, она просто выгнала бы его из класса.
Замок на двери сельсовета был покрыт тонкой обжигающей изморозью. Мокрут придерживал его теплой рукою, и, пока отмыкал, пальцы пощипывало хотя и предвесенним, но еще сердитым морозцем. Дверь отозвалась каким-то чужим и неприветливым скрипом. Еще один замок и еще одна дверь. Из кабинета дохнуло теплом и привычной горечью - недавно накурено. Не зажигая лампы, Мокрут нашарил свой гвоздик на стене, разделся и повесил на него кожанку, потом прошел к поповскому креслу. Половицы проскрипели так громко, что он даже испугался. Сколько довелось посидеть в этом кресле и даже поспать! Уснуть бы и сейчас, забыть обо всем.
Мокрут всем своим расслабленным телом повисает на подлокотниках, откидывает голову на высокую спинку. До чего же хорошо было когда-то вот так отдыхать, а то и беседовать с людьми.