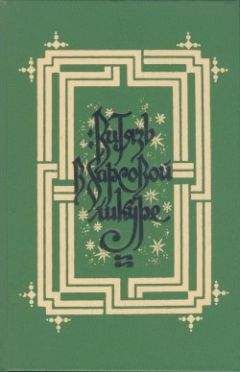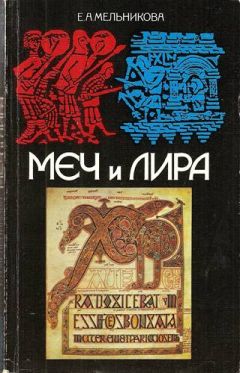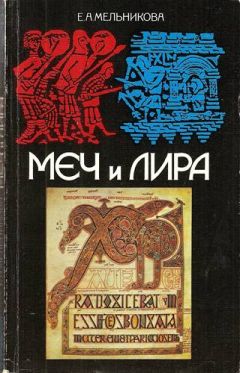Алексей Смирнов - Козьма Прутков
За этим сдержанным признанием драма деспотичной материнской любви, ломавшей судьбу собственного сына, равно как и драма преданной сыновней любви, жертвовавшей собственным счастьем ради душевного спокойствия матери.
Тем временем тяжело заболел дядя Алексей Алексеевич Перовский. Он собирался переселяться в Италию и распродавал вещи, приобретенные им когда-то с маленьким племянником во дворце Гримани… Но до Италии Перовский не доехал. Он умер в Варшаве на руках Алексея Толстого.
Возвратившись в Москву, Толстой переводится из Московского архива в русскую дипломатическую миссию во Франкфурте-на-Майне. Служба, по-видимому, не очень тяготит молодого дипломата. То его можно видеть с матерью в Ливорно, то он уезжает в Париж… Вообще с юных лет Алексей Константинович привык выхлопатывать себе всевозможные отпуска и отсрочки. Чувствуется, что казенные стены ему противопоказаны и государственная или придворная карьера не его стихия. Зато родственники (высокопоставленные дядья) аккуратно следят за его карьерным ростом и содействуют его перемещению во Второе отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии. Для личного друга наследника престола и эта служба не обременительна. Он держит лошадей, шьет слугам дорогие ливреи, себе заказывает по пятнадцать пар перчаток, ездит на балы и в концерты, бывает в опере, пробует рисовать, интересуется «разными новинками вроде появившихся тогда первых телефонных аппаратов…»[95].
Перовский завещал племяннику немалое состояние; правда, наследник владел им чисто формально. На самом деле всеми имениями управляла мать, выдававшая сыну на руки наличные деньги.
Судя по документам, сороковые годы прошли для Алексея Толстого в не слишком напряженной службе, балах и маскарадах, охотах и путешествиях, стихотворном и прочем балагурстве, выхлопатывании отпусков и в их просрочке. Между тем заботами родни чины прибавлялись. В двадцать шесть лет граф был уже камер-юнкером (придворный чин), а в двадцать девять — надворным советником (армейский подполковник). Службой он не дорожил и подобно своему дяде по отцовской линии, известному скульптору и медальеру графу Федору Петровичу Толстому, был готов в любой момент выйти в отставку, чтобы посвятить себя искусству. Однако родня не отпускала, стараясь непрерывными повышениями и льготами смягчить Толстому участь подневольного, все-таки не вполне имевшего право распоряжаться собой так, как ему этого хотелось.
Кроме родовитости, высочайших связей и богатства, молодой Толстой обладал и некоторыми феноменальными личными качествами. По воспоминаниям А. В. Мещерского, «граф Толстой — был одарен исключительной памятью. Мы часто для шутки испытывали друг у друга память, причем Алексей Толстой нас поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы, закрыв книгу, мог дословно все им прочитанное передать без одной ошибки; никто из нас, разумеется, не мог этого сделать. <…>
Глаза у графа лазурного цвета, юношески свежее лицо, продолговатый овал лица, легкий пушок бороды и усов, вьющиеся на висках белокурые волосы — благородство и артистизм. По ширине плеч и по мускулатуре нельзя было не заметить, что модель не принадлежала к числу изнеженных и слабых молодых людей. Действительно, Алексей Толстой был необыкновенной силы: он гнул подковы, и у меня между прочим долго сохранялась серебряная вилка, из которой не только ручку, но и отдельно каждый зуб он скрутил винтом своими пальцами»[96].
То же подтверждает и В. А. Инсарский: «Граф Толстой был в то время красивый молодой человек, с прекрасными белокурыми волосами и румянцем во всю щеку. Он еще более, чем князь Барятинский, походил на красную девицу; до такой степени нежность и деликатность проникала всю его фигуру. Можно представить мое изумление, когда князь однажды сказал мне: „Вы знаете — это величайший силач!“ При этом известии я не мог не улыбнуться самым недоверчивым, чтобы не сказать презрительным образом; сам, принадлежа к породе сильных людей, видавший на своем веку много действительных силачей, я тотчас подумал, что граф Толстой, этот румяный и нежный юноша, — силач аристократический и дивит свой кружок какими-нибудь гимнастическими штуками. Заметив мое недоверие, князь стал рассказывать многие действительные опыты силы Толстого: как он свертывал в трубку серебряные ложки, вгонял пальцем в стену гвозди, разгибал подковы. Я не знал, что и думать. Впоследствии отзывы многих других лиц положительно подтвердили, что эта нежная оболочка скрывает действительного Геркулеса»[97].
Алексей любил путешествовать. Была долгая поездка во Францию и Алжир. Пребывание во Франкфурте. Есть подозрение, что длительными совместными вояжами за границу ревнивая матушка отваживала любимого сына от потенциальных жен. А когда приходилось все-таки возвращаться в Петербург, то и там великовозрастный сынуля-силач почти безотлучно находился при матери. «По ее поручению делал он визиты ее знакомым старушкам, бывал вместе с нею в театрах и на концертах и покидал графиню лишь ради охоты. Анна Алексеевна была настолько привязана к сыну, что обыкновенно не ложилась спать, пока он не вернется домой, как бы поздно это ни случалось»[98].
В апреле 1850 года Толстого командировали на ревизию Калужской губернии. Он воспринял это как очередное вмешательство в свою жизнь, новое покушение на свою свободу и назвал командировку «изгнанием». (Может быть, по аналогии с изгнаниями Пушкина?)
Тем временем служебный донос на калужского губернатора Смирнова оказался ложным, а общение с ним и его женой доставило Толстому немало радости. Дело в том, что Смирнов был женат на хорошо знакомой нам по первой главе фрейлине двора А. О. Россет, той самой, которая дружила с Пушкиным, Гоголем, Аксаковым, которой посвящал свои юморески Мятлев, а теперь — свою лирику Толстой. Только представьте, какому цвету русской литературы на протяжении десятилетий украшала жизнь Александра Осиповна Смирнова-Россет!
В конце 1850 года Толстой возвращается в столицу. К тому времени им вместе с двоюродным братом Алексеем Жемчужниковым исключительно забавы ради, в порядке стихотворного балагурства была сочинена комедия «Фантазия» (см. пятую главу), которую соавторам пришла охота увидеть поставленной на сцене Императорского Александринского театра.
Так постепенно начинал материализовываться некий дух, вознамерившийся воплотиться в солидного густобрового господина по имени Козьма Прутков…
Глава четвертая