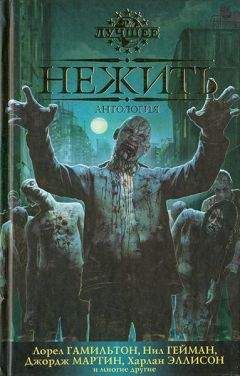Геннадий Геродник - Моя фронтовая лыжня
На мое место у окошка никто не претендует: из него тянет холодом. Особенно во время движения поезда. А меня оно вполне устраивает, здесь я могу заниматься немецким языком. Сейчас же у меня еще одно преимущество перед соседями: наблюдаю за тем, что происходит за пределами вагона.
Противовоздушная оборона станции довольно мощная. Количество зениток определить трудно, а прожекторы — вот они, все на виду. С моей стороны шесть. Мощные лучи торопливо обшаривают небо. Они то упираются в тучи и тогда видны особенно явственно, то соскальзывают с них и теряются в беспредельной тьме ночного неба.
Вот двум лучам удалось поймать на перекрестие вражеский самолет — алюминиево-светлую стрекозу. Мгновенно в ту же точку нацелился еще один луч и еще один. Самолет маневрирует: переходит на зигзагообразный «полет моли», делая крутые виражи. Вокруг него вспыхивают небольшие облачки от разрывов зенитных снарядов.
«Стрекозе» удалось соскользнуть с перекрестия и лучи разошлись в разные стороны, торопливо ищут пропажу. Мое внимание привлекает другое: появились женщины и дети. Одни бегут по междупутьям, другие выбираются из-под соседнего эшелона и ныряют под наш. Почему они оставили свои вагоны? Разбомбило их, что ли? Или это результат паники? Разве в этом лабиринте найдешь безопасное место! Так можно погибнуть не только от бомбы, но и под колесами вагонов.
Невольно вспоминаю старшину Борулю. Каково ему видеть этих мечущихся по путям женщин и детей! Ведь он сейчас обязательно вглядывается, ищет своих.
Резкий нарастающий визг и серия разрывов. Но бомбы упали где-то в отдаленном углу станции. Еще заход, опять леденящее кровь завывание. Меня с силой вжало в нары, затем подбросило вверх — будто волнами меняется гравитационное поле на этом участке земли. На этот раз бомбы упали где-то очень близко. Попав в мощную воздушную волну, наш вагон с шумом вздохнул, будто живое существо.
Еще несколько заходов… Бомбы падают подальше от нашего состава. Что-то крепко стукнулось о крышу вагона.
— Что это? Пуля? — спрашивает мой сосед Федоров.
— Не похоже, — отвечаю тоном знатока. — И самолеты в данную минуту над нами не пролетали, и звук иной. Что-то со звоном брякнуло — видимо, упал осколок от зенитного снаряда.
Из темноты вынырнула цепочка людей. Впереди шагает железнодорожник, в руках у него фонарь особой конструкции: из-под длинного козырька вырывается лучик синего цвета. За провожатым следует несколько санитарных носилок. Раздаются стоны, слышен судорожный женский плач.
Старшина Кокоулин спрашивает у железнодорожника:
— Наш эшелон впереди цел?
— Ваш-то цел. А в соседнем, гражданском, два вагона разнесло.
— До следующей большой станции далеко?
— Через три километра — Бологое.
— Как — Бологое? А это что за станция?
— Это пока Медведеве, на рыбинской ветке.
Вот те и на! Ведь весь наш вагон был уверен, что мы добрались уже до Бологого. Это плохо! Значит, в Бологом нам предстоит еще один сабантуй. Нас в Рыбинске предупреждали: если поедете через эту узловую станцию, без бомбежки ее не проскочить.
Отбой воздушной тревоги. Тут мы все почувствовали, как сильно остыл вагон. Муса и Вахоня опять затапливают печку. Наш эшелон тронул с места, чтобы закончить наконец маневрирование и выбраться из медведевского лабиринта.
После сильного напряжения нервов наступает разрядка. Вагон полнится возбужденными разговорами, шутками.
— Вот и понюхали пороху! — говорит Итальянец таким радостным тоном, будто ему впервые довелось испробовать какую-то редкостную марку коньяка.
— Пока не понюхали, а только малость нюхнули, — уточняет Философ.
На станции Березайка
На станции Бологое я и Федоров сменили постовых на открытой платформе. Охраняем ротное и батальонное имущество: несколько саней и походную кухню, ящики с боеприпасами, связки запасных лыж, мешки с овсом и обмундированием, лежащие штабелем тюки прессованного сена.
Тихая морозная ночь. Но во время движения студеный ветер обжигает лицо. Мы спрятались от него в затишке между мешками и тюками. Глаза свыклись с темнотой. Ночь безлунная, в просветах между тучами по-зимнему ярко мерцают звезды. А на земле — ни огонька, затемнение на десятки и сотни, на тысячи километров.
— Даже во время Батыева нашествия на Руси по ночам горели походные и сигнальные костры, — задумчиво говорит Дмитрий Михайлович. — А сейчас… Хотя бы волчьи глаза во тьме кромешной засветились!
— Приедем на фронт, там насмотримся на огни, — отвечаю ему. — Боруля рассказывает, немцы ночи напролет ракеты в небо пускают.
— Там будет и другая иллюминация: в прифронтовой полосе немцы вовсю жгут наши селения.
В этом разговоре мы не учли еще одной разновидности иллюминаций. И очень скоро немец преподал нам урок.
В Бологом наш состав выбрался на основную магистраль Москва — Ленинград. Первая крупная станция после Бологого — Березайка. До этой памятной ночи я был убежден, что такой станции на самом деле не существует. Считал, что она выдумана для рифмы, чтобы складно получалось в широко известной шутке-балагурке: «Станция Березайка, кому надо, вылезай-ка!» Оказывается, есть такая.
Прочитать название станции нам помогло неожиданное обстоятельство. В тот момент, когда мы напряженно вглядывались в темноту, вдруг стало светло. Даже слишком светло! Глянув вверх, мы увидели в небе десятка полтора медленно плывущих на парашютиках ярких огней. Немцы повесили над станцией так называемые «фонари». Из-за грохота нашего и соседних эшелонов мы не расслышали гула приближающихся фашистских самолетов.
На этот раз Березайке досталось мало. Самолеты покружились где-то высоко, затем снизились, на бреющем полете обстреляли эшелоны и восвояси убрались на запад.
— Как это понять? — говорю своему напарнику. — Возможно, они отбомбились где-то восточнее и в Березайку заглянули на обратном пути, уже без бомб на борту…
Дмитрий Михайлович молчит, видимо, обдумывает мою гипотезу.
— Хуже, если это была разведка, — выдвигаю другое предположение. — Тогда в ближайшее время нагрянут бомбардировщики. Скорее бы проскочить эту Березайку!
Дмитрий Михайлович снова не отзывается. И поза у него какая-то странная: сидя на тюке сена, накренился набок. Меня пронзает страшное подозрение.
— Дмитрий Михайлович! — трясу его за плечо.
Сбрасываю варежки, ощупываю лицо и каску Федорова. Расстегиваю шинель, ватник и, добравшись до гимнастерки, натыкаюсь руками на теплое и липкое. Кровь!
Признаться, я здорово растерялся. Как перевязывать раненого бинтом из индивидуального пакета, я теоретически, конечно, знал. Но на мою голову сразу свалилось слишком сложное испытание. Тридцатиградусный мороз, темно, на Федорове уйма одежды. Как в такой обстановке к нему подступиться? Пока буду копаться, эшелон может пойти дальше, и я на неопределенное время останусь с раненым один на один.