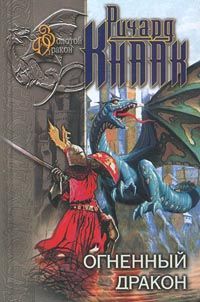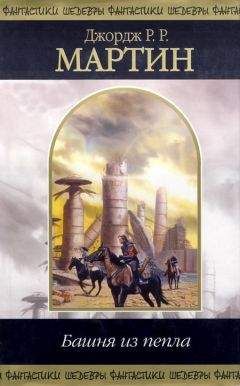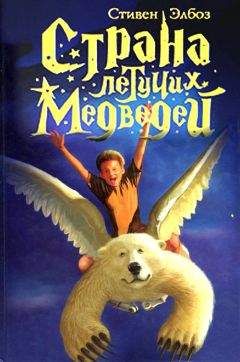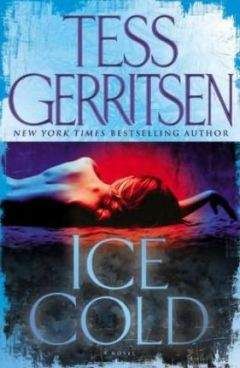Валентин Ерашов - Преодоление. Повесть о Василии Шелгунове
За несколько дней до молебствия в трактире на Забалканском, у Обводного канала, сдвинув столики, прихлебывали пенистое пиво, изредка горланили песни, притом горланили поочередно, а те, кто не распевал, под шумок переговаривались вполголоса.
Мысль об этой пирушке, а затем и о церковной службе пришла в голову Шелгунову, к тому понуждали серьезные обстоятельства.
Вот уже изрядное время назад, в феврале минувшего, 1888 года, полиция и жандармы выследили-таки «Товарищество санкт-петербургских мастеровых», арестовали почти всех интеллигентов-кружковцев во главе с Точисским. Вот когда Павла Варфоломеевича помянули добрым словом: его конспиративность, многим, в том числе и Василию, казавшаяся чрезмерной (шутка ли, иных членов организации по именам-отчествам даже не знали, только по кличкам!), пришлась очень кстати. Уцелела вся рабочая часть «Товарищества», основное, по сути, его ядро. Точисский оказался прав и в другом: к моменту арестов и Шелгунов, и Климанов, и Василий Буянов его стараниями сделались людьми достаточно зрелыми политически, способными вести самостоятельную пропаганду.
Но вот организаторского опыта им недоставало. И почти на ощупь, догадкой скорее, Шелгунов прикинул: надо бы попробовать создать легальную рабочую организацию, выходить на люди в открытую, попытаться вовлечь побольше народу. Егор, человек увлекающийся, незамедлительно согласился. Придумали название — такое, чтобы, казалось, и комар не подточил носа: «Общество взаимопомощи учеников воскресных школ». «Пожалуй, что верно, Вася, — соглашался Климанов, — ты, оказывается, голова».
Сочинили проект устава, походили-поездили по вечерним школам, нашли согласных людей, вот и сошлись в трактире, чтобы рассмотреть устав. А про молебен додумался Шелгунов уже на этой попойке.
Но уловка с молебном не помогла. Даже слова общество власти боялись. Правда, отчасти и запрет пошел на пользу делу: наименее стойкие и убежденные рабочие сразу от Шелгунова и Климанова отшатнулись, остались только самые сознательные. Из них и сколотили — теперь заведомо нелегальный — кружок «Борьба», поставили революционные цели: вести пропаганду среди рабочих.
Налаживали группы на заводах и фабриках, составили, как умели, программу занятий, подыскивали интеллигентов для чтения лекций, пытались заново собрать библиотечку взамен конфискованыой, этим занимался Василий. Однако силенок не хватило, организация больше числилась, нежели существовала, не было твердого руководства и ясного понимания, по какому же двигаться направлению. Но посчастливилось: Шелгунов и его тезка Буянов окольными путями познакомились со студентом-технологом Михаилом Ивановичем Брусневым.
Однако для Шелгунова эта встреча была кратковременной, а следующие оказались редкими: у Василия улучшилось зрение, отсрочка от призыва истекла, вызвали в воинское присутствие.
2Призвали на службу царю и отечеству в первый день 1890 года, в ополченский запас уволили 22 сентября 1892-го, — без малого три года потаскал солдатскую шинель, даже сделал карьеру — до ефрейтора.
Местом определили Ораниенбаум, в просторечье Рамбов, славный городок, сорок верст от столицы на берегу «Маркизовой лужи», то бишь Финского залива. Дачи, сады, всякие увеселительные павильоны, а заводов никаких, ни копоти, ни гари, ни шума-грохота, и в Питер можно по железной дороге, а то и на пароходе.
Попал Шелгунов служить в роту при офицерской школе, где сотню капитанов готовили к замещению должностей батальонных командиров. А у солдат роты обязанности — нести караул, обслуживать кухню и офицерскую столовую, ходить в наряд на стрельбище, убирать во дворе, на плацу, в классах, прислуживать их высокоблагородиям. И, как полагается, муштра и словесность. Иногда увольняли в отпуск. Здесь, в Рамбове, в отличие от столицы, солдатам не возбранялось заходить в парки. Случалось, давали увольнительный билет в Питер, с ночевкой, если не проштрафился, начальству угодил. Василий старался. Один старослужащий его наставлял: хочешь, мол, чтобы служба не шибко тяжкой показалась — не валяй дурочку, не отлынивай, выполняй справно, что прикажут, не лезь на рожон, умей смолчать, однако и не угодничай сверх меры, поскольку прихлебателей солдаты не любят… Дельного совета Василий послушался. Маршировал на плацу — искры из-под сапог, словесность отбарабанивал, как дьячок молитву, кухонные кастрюли начищал до раскаленного блеска, выделялся опрятностью форменной одежды.
С позволения фельдфебеля усердный солдат поставил в казарменном закутке переплетный станок: дозволялось прирабатывать к скудному жалованью, из доходов этих выделял толику и унтерам, и фельдфебелю. А Шелгунову кроме нелишних денег было надобно и другое: под видом заказов привозил из Питера литературу, какую солдатам читать не положено, раздавал надежным товарищам.
Попал в руки томик Писарева, заинтересовало не слишком, но внимание Василия остановили такие слова;
«Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, которое непременно должно совершаться самостоятельно».
Запало в голову, призадумался. На прикопленные деньги накупил книг, что можно было без особых опасений держать в казарме под видом сданных в переплетную работу. Принялся читать подряд: и Лафарга «Религию и капитал», и Лассаля «О сущности конституции», «Программу работников», и труды Августа Бебеля — о нем наслышался от Павла Точисского. И вскоре в голове образовался ералаш, Шелгунов начал запутываться в тех вещах, какие прежде вроде понимал вполне. И привела эта путаница к результату неожиданному: он стал все решительней настраиваться против интеллигентов.
У Василия был приятель, Саша, Александр Сидорович Шаповалов. За ним водилась некая странность: любил рассуждать о том, что для русского мастерового сознание собственного достоинства является крайне редким качеством, наш рабочий привык, что все его обманывают, и оттого ко всему относится с недоверием. «Погляди, — говаривал Шаповалов, — не только хозяева, управляющие, мастера, но и сам наш брат норовит ближнего унизить, объегорить. Крадут друг у дружки инструмент, устраивают дикие забавы, изгаляются над мальцами-учениками. Те, кто из деревни перебрался недавно, — у них главная забота поднакопить деньжонок и вернуться домой, к городским относятся и с недоверием, и с презрением одновременно, за копейку готовы удавиться. Где тут, Вася, человеческая честь? А мастера-немцы? Мы для них — руссишен швайнен, русские свиньи… А инженеров и хозяев — тех и вообще почти не видим, пренебрегают. И помыкает нами кто хочет, а мы помалкиваем, где же человеческое достоинство наше?»