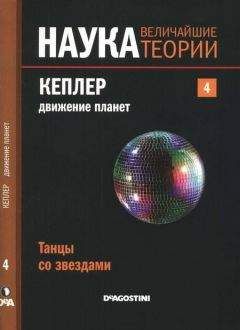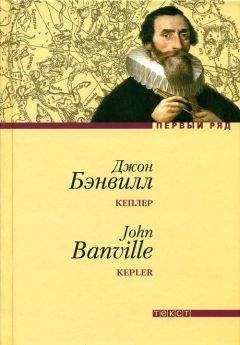Григорий Чухрай - Мое кино
Урусевский деланно захохотал.
– Ну, нахал! Ну, нахал! Он тоже может снять фильм!
– Да, – сказал я. – Если бы я в этом не был уверен, я бы был нахалом и авантюристом. Но мне дорога моя концепция и мне нужен только мой фильм. Я не могу быть мальчиком на побегушках. Если группа во мне сомневается, я согласен уйти и уступить режиссуру Урусевскому и Белле Мироновне.
Я действительно готов был уйти. Я устал от дрязг.
Выступление членов группы было для меня совершенно неожиданным. Все они говорили о том, что Урусевские вели себя по отношению ко мне, мягко говоря, некорректно и мешали нормально работать. Выступил и Николай Крючков.
– Я в своей жизни видел столько режиссеров, как не стреляных воробьев, и я говорю ответственно: Чухрай – режиссер! Мне интересно с ним работать. А вы ему все время мешаете!
Резолюция собрания звучала обвинительным актом по отношению к Урусевскому и Белле.
Четыре дня группа не работала: Урусевский не являлся на съемки. Вечером четвертого дня ко мне в номер пришла группка парламентеров: «Урусевский напишет Пырьеву, что не хочет продолжать с вами работать. Вы знаете нрав Пырьева – он отстранит вас от работы. Зачем вам это нужно?»
– Передайте Белле, что я таких прогнозов не слушаю.
Я был уверен, что их прислала Белла Мироновна. На следующий день ко мне в номер пришел сам Сергей Павлович. Он говорил, что на собрании многие были необъективны, что ни он, ни Белла Мироновна не хотели мне зла, что он полюбил фильм и готов продолжать работу, но для этого я должен уничтожить протокол собрания.
– Я искренне хочу с вами работать, – сказал я откровенно. – Я ценю ваш вклад в картину. Но я в жизни не уничтожал документов, какого бы содержания они ни были, не сделаю я этого и сейчас.
– Но после такого собрания как мне и Белле Мироновне продолжать работу?
– Если мы будем работать честно, без интриг, протокол собрания будет забыт. Никто о нем никогда и не вспомнит. Если мы будем дружно работать! Не оскорбляя, не интригуя друг против друга.
Урусевский вынужден был согласиться. Не скажу, что интриги совсем прекратились, но они были для меня неопасными. Несколько раз Урусевский возвращался к разговору об уничтожении протокола собрания, но с тем же результатом.
Забегая вперед, скажу, что я всегда был благодарен Урусевскому за то, как он снял «Сорок первый». После окончания картины мы относились друг к другу довольно тепло, Урусевский был талантливым живописцем. Я пропагандировал его живопись. Добился для него мастерской. Часто бывал у него дома. Наши подъезды находились по соседству. У нас обнаружилась общая любовь к Маяковскому, и мы дружно беседовали о поэзии. Единственным предметом спора между нами был спор об «изобразительном кинематографе». Он считал, что кинематограф – это искусство изображения, и хотел практически доказать это. Я придерживался другого мнения и старался уберечь его от ошибок, но не уберег. Его фильм «Я – Куба», шедевр по изображению, был забыт вскоре после его появления на экране. Фильмы, на которых он стал режиссером, были неудачны и не пользовались успехом. После его неожиданной смерти Белла Мироновна Фридман попросила меня быть главой комиссии по увековечению памяти Урусевского. Я выполнил эту просьбу с энтузиазмом. Я по-настоящему любил Урусевского, понимал его жизненную трагедию, уважал верность ему Беллы Мироновны, каждый день посещавшей его могилу. Она безумно любила Сергея Павловича, но эта безумная любовь часто была причиной его трагедий.
Судьба «Сорок первого» сложилась не просто. Когда я привез материал картины, меня вызвал Пырьев.
– Ты снимал картину не по сценарию? – спросил он строго.
– Да, – ответил я.
– Почему?
– По-моему, так лучше.
– Сядь на мое место.
Я не смел этого сделать.
– Сядь! Мать-перемать! (Пырьев был искусный матерщинник.)
Я сел на место директора.
– Я тебя вызвал с Украины, я взял на себя ответственность, поручив тебе сложный фильм, лучшие люди кинематографа утвердили тебе сценарий. А ты, мать-перемать, уезжаешь в пустыню и снимаешь не по сценарию? Так-то ты меня уважаешь!
– Посмотрите материал, по-моему, так лучше.
– А ну слезь с этого места и вон из кабинета!
Освобождаю директорское место.
– Иван Александрович, посмотрите материал. По-моему, так лучше.
– Вон из кабинета!
Направляюсь к двери, у дверей стоит стул. Сажусь на этот стул. Упрямо заявляю.
– Не уйду, пока вы не посмотрите материал.
– Ну, ты упрямый хохол...
– Я знаю человека еще более упрямого, чем я...
– На меня намекаешь? Заслужить надо, кошечка! Вон из кабинета!!!
По состоянию Пырьева понимаю: надо уходить, иначе дело дойдет до драки. Ухожу в монтажную. Занимаюсь монтажом. Появляется директор группы.
– Поздравляю, нас отдают под суд...
– За что?
– За переделку сценария, за перерасход средств.
– Пусть судят.
– Тебе «пусть судят», а Марьяну Рооз уже допрашивают. Что снято по сценарию, утвержденному худсоветом, а что самовольно.
Приходил дознаватель и ко мне, отмечал в сценарии, что я снял самовольно. Сверял с показаниями редактора Марьяны Рооз. Лицо важное: ни улыбки, ни лишнего слова. Будет суд. А пока я монтирую.
Режиссер-дебютант, монтируя свой фильм, если он не самовлюбленный болтун, видит в фильме только досадные недостатки и старается исправить их монтажом. Но вот монтаж закончен и наступает этап тонирования. Материал, обогащенный словом и музыкой, на твоих глазах оживает и начинает «дышать». Это ни с чем не сравнимая радость. Ты понимаешь, что фильм живет. Это как радость при рождении ребенка. Фильм живет!
Теперь предстоит отдать его на суд худсовета, и снова тебя начинают терзать сомнения, страхи, опасения. Тебе-то кажется, что фильм живет, а вдруг ты ошибаешься? Вдруг посторонний глаз заметит в нем ошибки и признает его калекой? Но делать нечего, и ты отдаешь свое детище на строгий суд худсовета.
Решаю, что не пойду в просмотровый зал. Буду ждать решения в вестибюле. Сегодня здесь пусто. Никто не полезет к тебе с утешениями, рассуждениями, расспросами. Сижу и жду свою судьбу. Из просмотрового зала доносятся последние аккорды музыки. Фильм кончился. Сейчас меня пригласят, и начнется... Я готов ко всему. Я жду, но никто меня не приглашает, волнение нарастает.
Но вот открывается дверь, и в ней появляется Пырьев. Лицо бледное. Решаю: будет ругать – оправдываться не буду.
Пырьев подходит ко мне, обнимает и целует в щеку. Фильм принят, понимаю я. С трудом удерживаю слезы.
– Пойдем, – говорит Пырьев.
Он взволнован.
Как пьяный плетусь за ним в кабинет. Пырьев открывает ящик стола и отдает мне бумажку, сложенную вчетверо.