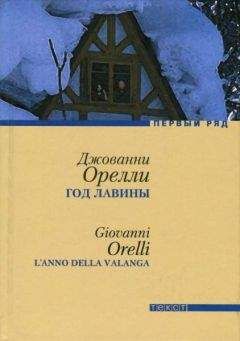Ирина Муравьева - Жизнь Владислава Ходасевича
Одна из мышей — стихотворных героев — была прозвана Сырником и превратилась в некий символ простой, тихой и скрытой от чужих глаз жизни.
<…> Ты не разделяешь слишком пылких бредней,
Любишь только сыр, швейцарский и простой,
Редко ходишь дальше кладовой соседней,
Учишь жизни ясной, бедной и святой.
Заведу ли речь я о Любви, о Мире —
Ты свернешь искусно на любимый путь:
О делах подпольных, о насущном сыре, —
А в окно струится голубая ртуть…
Друг и покровитель, честный собеседник,
Стереги мой домик до рассвета дня…
Дорогой учитель, мудрый проповедник,
Обожатель сыра, — не оставь меня!
Была и мышь Книжник, которую автор уговаривал грызть не книги, а бисквит, — стихи о ней опубликованы в 1920 году, в рукописном сборнике Ходасевича «Стихи для детей». Впрочем, комментаторы считают, что это, возможно, перевод из Р. Стивенсона, хотя о мыши Книжнике Ходасевич пишет еще в письме 1916 года из Коктебеля.
Мой милый Книжник. Ты совсем
Опять изгрыз два тома… Ловок.
Не стыдно ль пользоваться тем,
Что не люблю я мышеловок?
Хоть бы с меня пример ты брал:
Я день-деньской читаю книжки,
Но разве кто-нибудь видал,
Что я грызу их, как коврижки? <…>
Мыши стали для Ходасевича чем-то вроде пушкинского домового, вроде Лар, хранителей домашнего очага. Наверняка он был знаком с лекцией М. Волошина «Аполлон и мышь», опубликованной в альманахе «Северные цветы» в 1911 году. Но он словно игнорировал хтоническую, зловещую природу этих таинственных существ, приручив их, сделав своими покровителями в обыденной жизни. Был, конечно, в этом поклонении маленьким домашним божествам, как и в самом сочетании слов «счастливый домик» (не дом, а домик! и надолго ли это «счастье»? — «…от судеб защиты нет»), едва заметный оттенок самоиронии и тревоги, который сквозит и в стихотворении «Молитва»:
Все былые страсти, все тревоги
Навсегда забудь и затаи…
Вам молюсь я, маленькие боги,
Добрые хранители мои.
Скромные примите приношенья:
Ломтик сыра, крошки со стола…
Больше нет ни страха, ни волненья:
Счастье входит в сердце, как игла.
Наверное, все это — стремление к тихой умиротворенной жизни, к покою, к «игле» счастья в сердце (счастье как наркоз, как укол морфия?) — было антитезой другой стороне натуры Ходасевича: внутреннее беспокойство, острое ощущение экзистенциальной трагедийности жизни не оставляли его уже и в это время. Пока срабатывал какой-то защитный механизм, тянуло к передышке, к «тихому счастью».
Но жизнь не замыкалась на «счастливом домике», так же, как и сам сборник под этим названием был наполовину наполнен стихами, обращенными к другой женщине — к Жене Муратовой, «царевне», написанными ранее и даже позднее, в 1913 году, уже как воспоминания. Отголоски тех, «итальянских» дней все еще были живы.
Бездомная «бродячая жизнь, пьянство», как писал о предыдущих своих годах сам Ходасевич, вроде бы закончились. Но он по-прежнему существовал в московском литературном мире, постоянно общался с собратьями по перу, по-прежнему много играл в карты, которые занимали в его жизни особое место, скорей всего такое же, как в жизни Пушкина. Скрытая азартность и страстность натуры, свойственная вообще многим русским писателям, вырывалась за ломберным столом наружу, философия игры смыкалась где-то с философией жизни («Все ставки роковые» — в письме Нине Петровской). «Пушкин говаривал, что сильную игру надобно отнести в разряд тех предприятий, которые, касаясь, с одной стороны, близкой гибели, а с другой — блистательного успеха, наполняют душу самыми сильными ощущениями, всегда увлекательными для людей необыкновенных…» — это писал когда-то П. А. Плетнев о Пушкине-игроке. Острые ощущения, описанные Пушкиным, были и Ходасевичу милы и необходимы: при внешней сдержанности и ироничности он был человеком страстным.
Круг литературных общений Ходасевича значительно расширяется и меняется, происходят новые сближения. Круг так называемых «мальчишек»: Александр Брюсов, Александр Койранский и другие — им почти покинут, большинство из них ему уже просто неинтересны, он перерос эту юношескую среду. Да и нет уже их прежних вечеров на Знаменке, в «башенной гостиной» у Соколова-Кречетова, нет уже прежних «грифят» под крылом «Грифа».
Ходасевич все еще встречается с Валерием Брюсовым, бывает иногда у него в доме, но наблюдает за ним как бы со стороны; особой близости у них никогда не было, а преклонение начало потихоньку уходить. Однажды Брюсов даже сам заходит к нему и Нюре в гости, на Знаменку, с коробкой конфет в руках. Но подспудная цель визита — попросить их поддерживать и оберегать Надежду Львову, которая вскоре все равно покончит с собой…
Среди постоянных и самых дорогих Ходасевичу собеседников — Андрей Белый, который, по его собственному признанию, сильно повлиял на его философские воззрения и поэзию (при всей их поэтической непохожести). Андрей Белый обладает особой аурой, особой силой притяжения. Оба они всерьез интересуются проблемами стихосложения, обсуждают друг с другом секреты метрики и ритма и собственные стихи. Часто подолгу гуляют они вместе по Москве или сидят за бутылкой вина. «Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющи, — вспоминал Ходасевич. — <…> Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обусловлено разнозвучание того или иного размера?» Теоретические вопросы стихосложения необычайно интересовали Ходасевича всю жизнь: он был не просто поэтом, но и филологом. Однажды летом Андрей Белый вызвал его по телефону с дачи в Москву, чтобы немедленно рассказать о своем открытии: что стихи одного размера отличаются друг от друга ритмом, что и определяет их разное звучание.
Как-то, еще в 1907 году, Ходасевич написал забавную пародию на «Вторую симфонию» Андрея Белого, но не решился ее публиковать, не спросив разрешения у автора, — боялся причинить ему лишнюю боль. Пародия при его жизни так и не была напечатана.