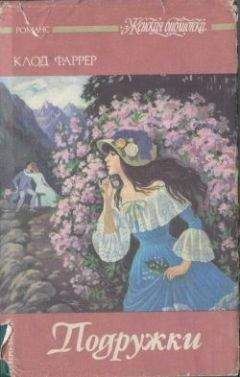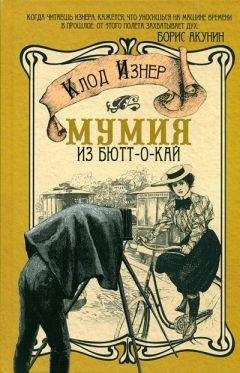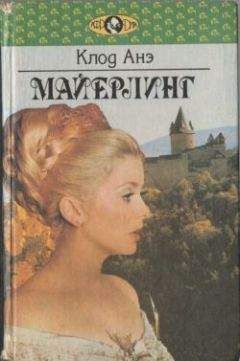Клод Лелуш - Баловень судьбы
Следствием всех этих слухов, сплетен, колебаний общественного мнения стало то, что накануне объявления списка победителей меня предупреждают, что Пальмовой ветви я не получу на том основании, что слишком уж часто говорили О том, что мне ее дадут. Какой-то гротеск! Теперь я твердо знаю одно: в Канне не надо заплывать слишком высоко по течению. Не хочется развивать спортивную метафору, но этот фестиваль и в самом деле напоминает гонку на выносливость. Необходимо беречь свои силы и свои эффекты. В идеале фильм «Мужчина и женщина» следовало бы показать в конце второй недели. Еще немного, и я, испытывающий ко всему отвращение, не вернулся бы на набережную Круазетт и уехал бы в Париж. Но мои ценные информаторы уверяют меня, что фильм в любом случае получит премию. Специальную премию жюри, премию за лучшую роль для Анук или Жана Луи. Ничего не поделаешь… Поскольку необходимо ломать комедию, утром в день объявления списка награжденных мы все-таки решаем вернуться в клетку с хищниками.
Над пальмами на набережной Круазетт ослепительно голубое небо, а море сверкает на солнце, как рыбья чешуя. Но в наших головах погода стоит хмурая. Мы с Жаном Луи выходим из отеля «Мартинес» и направляемся к отелю «Карлтон», где у меня назначена встреча с представителем «Юнайтед Артистс». Трентиньян пошел со мной, чтобы чем-то себя занять. Я тоже убеждаю себя, что этот маленький эпизод с бизнесом отвлечет меня от всех мыслей. Мы мечтали о Пальмовой ветви, а у нас будет право только на утешительный приз. Это почти унижение. Я машинально смотрю на часы. Тринадцать часов. Напрасно я стараюсь сосредоточиться на моем деловом свидании, мне не удается думать ни о чем другом, кроме членов жюри, которые ровно в полдень собрались в салоне отеля «Карлтон». Туда-то мы как раз и идем. Именно там в эти самые минуты решается все.
Так велит каннская традиция. В последний день фестиваля члены жюри собираются в «Карлтоне», соблюдая тот же ритуал, что и члены жюри Гонкуровской премии в парижском ресторане «Друан». В этот год, как обычно, каннское жюри сильно напоминает жюри какой-либо литературной премии,[21] поскольку в него входят шесть знаменитых писателей: Марсель Ашар,[22] Морис Женевуа, Андре Моруа, Марсель Паньоль, Жан Жионо и Арман Салакру. Четверо первых носят зеленый мундир членов Французской академии, если вам угодно. Два последних — члены Академии Гонкуров. Возглавляет жюри впервые не председатель, а председательша — София Лорен. Прекрасная итальянская актриса, которая много разъезжает, пропустила официальный просмотр «Мужчины и женщины» и попросила показать ей мой фильм на сеансе вдогонку, если так можно выразиться. Итак, члены жюри собираются ровно в полдень и объявляют список награжденных около часа. Официальная вечерняя церемония только освящает уже известных лауреатов. Я опять пытаюсь думать о чем-то другом, напуская на себя равнодушный вид человека, которого ничто не может взволновать… Но мне это не удается. Откровенно говоря, я бы предпочел, чтобы моя встреча; состоялась в другом месте. Хотя бы потому, чтобы только не выглядеть человеком, пришедшим выпрашивать то, что они соблаговолят мне дать. Вдруг чей-то крик прерывает наши мрачные размышления и заставляет нас с Жаном Луи поднять головы. Чей-то крик и чья-то фигура. Фигура человека, абсолютно нам незнакомого, который выскочил из отеля «Карлтон» и, как сумасшедший, бежит по набережной Круазетт, крича во все горло: «Пальмовая ветвь у Лелуша! Пальмовая ветвь у Лелуша!» Мы с Жаном Луи застываем на месте. Словно парализованные. Потом мы переглядываемся. Нам обоим очень хотелось бы обрадоваться, но мы не смеем. Не смеем в эту минуту. Кто этот человек? Серьезен ли он? Представляет ли он какую-либо инстанцию? Короче, можем ли мы хоть в малейшей степени доверять его словам? Мы с Жаном Луи в едином порыве ускоряем шаг. Незаметно мы почти бегом прибываем в «Карлтон». Как только мы оказались в холле, на нас набрасываются фотографы и безостановочно нас снимают. Нас опять окружают люди, нас поздравляют. Сомнения больше невозможны. Впрочем, через минуту нам самым что ни на есть официальным образом подтверждают: «Мужчина и женщина» удостоена Золотой пальмовой ветви».
Это буря. Самый настоящий скандал. В огромном зале Дворца фестивалей толпа в вечерних туалетах ревет и выкрикивает оскорбления, словно разбушевавшиеся футбольные болельщики на стадионе. Атмосфера напоминает мне кошмарный показ «Человеческой сущности» шесть лет тому назад во Французской синематеке. На этот раз освистывают не меня. Жюри. Уступая давлению некоторых критиков, наши дорогие академики и их коллеги по жюри «сгладили» мою победу. Чтобы успокоить моих самых ожесточенных противников, они просто-напросто поделили на двоих Золотую пальмовую ветвь! В ту минуту, когда председатель жюри объявил: «Золотая пальмовая ветвь присуждена Клоду Лелушу за фильм «Мужчина и женщина» и Пьетро Джерми за фильм «Signore е signori» («Дамы и господа»)», — зал буквально взорвался. Казалось, крики и свист не умолкнут никогда. Никто больше не может сказать ни слова.
К счастью, я был не в зале, а за кулисами. Вместе с другими лауреатами, которых объявили в час дня, я жду моей очереди выйти на сцену, чтобы получить премию, что дает мне возможность, проявляя минимум спокойствия, быть свидетелем яростного неистовства светской публики. И ждать, пока буря утихнет. Но вот сразу же я чувствую себя очень далеко от всего этого. Совсем рядом с собой, он почти меня касается, я вижу Орсона Уэллса! Он здесь, он тоже ждет своей очереди, чтобы получить специальную премию двадцатого Каннского фестиваля. Я испытываю почти столь же сильное волнение, какое я пережил при объявлении моей победы. Для меня человек, создавший фильм «Гражданин Кейн», — живой бог. С того времени, как только я себя помню, я страстно им восхищался. Его кино меня ошеломляло. Уэллс был для меня образцом для подражания и вдохновителем. Мне очень хотелось бы сказать ему обо всем этом. Что я ему и скажу, поскольку у меня теперь есть эта возможность, которая, может быть, больше никогда не представится. К сожалению, есть маленькая проблема. Я ни слова не знаю по-английски. Или почти не знаю. Более того, восхищение не мешает мне заметить, что мой бог — это очевидно — витает где-то в другом мире: с моим английским и с его затянувшимся состоянием трезвости дело это будет нелегким. Ничего не поделаешь. Собрав в кулак все мужество, я подхожу к нему. И начинаю разговор, стараясь высказать ему все мое восхищение на шутовском английском, который заставил бы расхохотаться Мориса Шевалье. Но не Орсона Уэллса. Внезапно осознав, что с его левого бока слышится какое-то бормотание, гражданин Кейн угрюмо смотрит на меня. Потом, не удостаивая меня ответом — он явно не понимает ни слова из того, что я ему говорю, — Уэллс решительно поворачивается ко мне спиной и удаляется в глубь кулис. Я совершенно ошарашен. В нескольких метрах от себя я вижу, как он с недовольным видом указывает на меня кому-то из отвечающих за порядок.