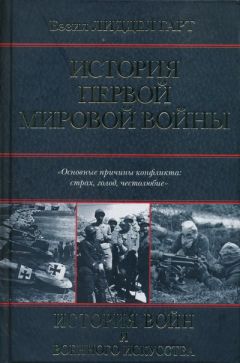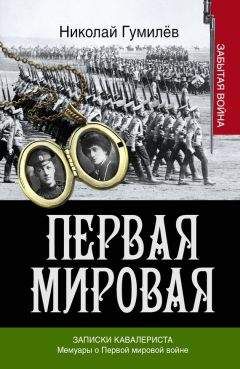Иосиф Кунин - Римския-Корсаков
Раньше он сочинял, слыша внутренним слухом гармонию еще прежде, чем успела сложиться мелодия, и вторую прилаживал к первой. Теперь мелодия шла впереди, она возникала в прямой зависимости от словесного текста.
Романсы сочинялись легко, складываясь порой в отдельные циклы. Чаще всего в напевах звучал голос раздумья, светлой печали. Страданье или горечь преодолевались, выше страстей вставал образ величавой природы, и жар непосредственного переживания охлаждался холодком мудрости. В цикле «Поэту» особенно ощутима главенствующая мысль. Недаром на экземпляре нот, подаренном Кругликову, значилось: «На память о взгляде на искусство автора музыки». Симпатии композитора к художникам объективного склада, к прекрасной уравновешенности ясно сказались в подборе стихотворений: «Эхо» Пушкина, «Искусство» Майкова. В четвертом романсе цикла — «Октава», также на слова Майкова, поэт называет прообразом «гармонии стиха» голоса самой природы. Романс удивительным образом воспроизводит таинственное рождение музыки из «шептанья тростников» и говора дубравы.
Но и совсем иная сторона искусства, не созерцательная, а пламенно-волевая, была глубоко пережита Корсаковым в эти месяцы. Свидетельством тому — завершение начатого еще в давнее время скорбного и гневного «Анчара» и создание монументального «Пророка» (на гениальные пушкинские тексты). Образ бесстрашного и мудрого обличителя, вестника правды дан в «Пророке» с потрясающей силой, музыка в заключительном разделе звучит гимном великому назначению художника. Посвятил его Римский-Корсаков Стасову.
А в середине лета прилетела негаданно-нежданно добрая весть из Москвы. Семен Николаевич Кругликов сообщал, что Частная опера Мамонтова хочет ставить «Садко», что сам Савва Иванович просит, умоляет дать авторское разрешение, обещая сделать все возможное для достойного исполнения оперы высокочтимого им композитора.
МОРСКАЯ ЦАРЕВНА
На Большой Дмитровке, у Солодовниковского театра, где дает спектакли Русская частная опера, нынче большое оживление. Афиши возвещают: «30 декабря 1897 года. Опера-былина «Садко». Содержание заимствовано из русского народного эпоса. Музыка Н. А. Римского-Корсакова». То и дело от Петровских ворот, от Страстного монастыря, от Охотного ряда повертывают на Дмитровку щегольские сани записных московских театралов и ценителей, а переулками гуще обычного движутся зеленые студенческие шинели от Тверской, от излюбленных малоимущими студентами Козихинских переулков. К сегодняшнему представлению ждут из Петербурга автора, и это ожидание магнетическим током разбегается по толпе, по оркестрантам, по всей мамонтовской труппе.
Сам Савва Иванович волнуется больше всех и скрывает волнение удвоенной деятельностью. Спектакль выпущен с недоделками, прорехи, как нарочно, лезут сегодня в глаза, а ударить в грязь лицом перед, как слышно, невероятно строгим
Николаем Андреевичем, ох, как не хочется! Ну да ничего!
— Костенька, голубчик, — на ходу останавливает он Коровина, только-только собравшегося поболтать за кулисами со знакомой хористкой, — вообрази, твой чудесный лес из сцены у Ильмень-озера изрядно поцарапали наши дуроломы. Беги сейчас с кистями, там угол подмалевать надо. Да Врубеля, Врубеля попроси помочь — один не успеешь, времени в обрез.
— Иван Григорьевич, — кидается Мамонтов к машинисту сцены, — вы один можете выручить нас! На вашего кита в подводном царстве все надежды. Блесните! Покажите петербургским гостям, на что Москва способна!
— Блеснем по силе возможности, — добродушно посмеиваясь, отвечает машинист. — Не тревожьтесь, Савва Иванович, не впервой.
— Феденька, Феденька! — снизу вверх заглядывает Савва Иванович в глаза тощему, с коломенскую версту вытянувшемуся басу. — Ради бога, помни, как я тебе показал. Обопрись о секиру вот так и, ни на кого не глядя, хмуро начинай:
О скалы грозные дробятся с ревом волны…
Получится дивно, божественно…
А уже бежит к Мамонтову взъерошенный хормейстер и в полном отчаянии докладывает, что мужской хор опять нетвердо знает свою партию, а ему вот сейчас, в первой же картине, петь пирующих новгородцев.
— Вздор! Споют! Положите на столы между блюдами нотные листки, пусть на них поглядывают. Никто из зала не заметит, а заметят — подумают, что это вроде меню пиршества.
И сам не выдержал, захохотал заразительно, с катаральным хрипом, кашлем и слезами, навернувшимися на молодые веселые глаза.
— Ну-ка, как это Садко поет?
Кабы была у меня золота казна,
Кабы была дружинушка хоробрая…
Есть золота казна! Есть и дружинушка хоробрая. Не робейте, милые!
В зале темно. Стихают звуки настраиваемых инструментов. Слышны среди тишины отдельные всплески торопливого шепота: «Автор! Вон, вон там, в директорской ложе!» И вот зал стих, смолк — от роскошных лож бенуара до последнего ряда галерки. Чуть прикрыв глаза ладонью, весь обратившись в слух, оперся о барьер Римский-Корсаков. Короткий стук дирижерской палочки. Взмах руки. И вместе с плавным шелковистым звуком скрипок начинается оркестровое вступление «Окиан-море синее».
Нет больше театра, нет оркестра. На великом просторе ходят, дышат, поют свою вечную песню морские валы. Перекликаются издали неведомые голоса — птицы ли перед бурей кличут или морские дива играют на приволье? Надвинулись темные тучи, громче и угрюмей рев океана. Снова проглянуло солнце. Бегут, ластятся друг ко другу волны, глуше их умильный шепот, дальше и дальше тихое журчанье. И вот уже скрылось виденье.
Занавес открывает сцену. Шумит стародавний почестный пир, гремит раздольный хор. Тяжеловесно веселье новгородских именитых людей. Осушающие чару вина за единый дых, простодушно-хвастливые богатыри без богатырского подвига, они напоминают массивные, округленные веками гранитные валуны, полузарывшиеся в землю озерного края. Что стронет их с места? Что нарушит их неподвижный покой?
Кабы была у меня золота казна,
Кабы была дружинушка хоробрая, —
Я не сидел бы сиднем в Новегороде,
Не стал бы жить по старине, по пошлине,
Не пировал бы день и ночь, не бражничал…
На сцене среди разнохарактерной, оживленной толпы, пирующей за широкими столами, — молодой гусляр. Распевный говор его свободно переходит в песню, и мерный плеск морских валов, возникающий в оркестре, дает живой образ заветной мечте Садко:
Пробегали б мои бусы[16] корабли,
Объезжали б моря, моря синие.
Погулял бы в странах я неслыханных,
Насмотрелся б чудес я невиданных…
По далеким морям, по раздолью земли
Пронеслася бы слава Новгорода!
А и вы бы тогда, гости знатные,
За то во пояс мне поклонилися.
А ведь гусляр этот — плоть от плоти пирующих новгородцев! В его песне их горделивая сила, их наивная похвальба слышится! Но песня его летит, как птица, и зовет в манящее приволье, где гуляют ветры и плещут валы.