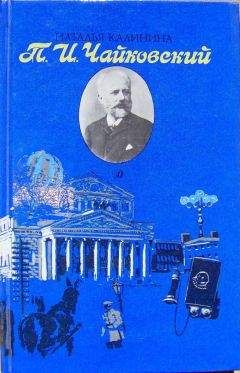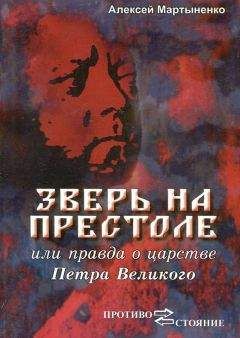Виктор Кондырев - Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–87 гг.
Что за чертовщина, переглядывались мы с Милой, какие сковородки, какие простыни?! Это же Запад! Там не только пледов и пылесосов, там автомобилей и фирменных джинсов куры не клюют! Иди в магазин и покупай, не ленись!
– Совсем твоя мамаша всё перепутала! – полыхала возмущением Мила. – В следующем письме пожалеет, что не захватили эмалированные миски да подставку для утюга!..
Началась наша жизнь без Некрасова.
Когда Илья Владимирович Гольденфельд уладил наш вызов в Израиль, меня тут же исключили из аспирантуры. Мила уволилась с работы сама, чтоб не нудили с обсуждением на общих собраниях.
Работать горным инженером на руднике я не захотел, а пошёл на карьер машинистом бурового станка. На общем собрании, тут же организованном парткомом, первым делом от меня потребовали отмежеваться от родителей. Я с некоторой заносчивостью отказался, слегка обхамив парторга и руководящих товарищей. Чем чрезвычайно расположил к себе не только наш славный рабочий коллектив, но и моё прямое начальство. Кстати, и предотъездная характеристика на работе была у меня очень лестная – не лодырь, добросовестен, ладит с людьми, пользуется уважением товарищей. Но, мол, не стремится повышать квалификацию, написал мой начальник. Он был прав, это отнюдь не похвально.
Живя в отказе, мы старались не наглеть. Но показывали всем своим видом, что у нас одна забота – воссоединиться с дорогими родителями! Никакой антисоветчины, боже упаси, всё в рамках прав человека. К тому же совершенно неожиданно для меня выяснилось, что я прирожденный сутяга.
Не откладывая в долгий ящик, я начал писать письма, «телеги», как тогда говорили. Во все возможные верховные советы, суды и президиумы. Нажимал на необходимость соблюдения социалистической законности, но всегда подчеркивал, что я не какой-то там смутьян и горлопан. Вполне законопослушен, работаю, но желаю воспользоваться священной привилегией каждого советского человека – добиваться выполнения конституции, писать жалобы на местных царьков и взывать к справедливости.
В ОВИРе меня начали встречать как почётного посетителя – широко улыбались, предлагали сесть, интересовались отметками сына и здоровьем тёщи.
Беспрерывно обменивались письмами с Некрасовым. Ещё больше писала нам мама, описывая мельчайшие подробности. За полтора года я получил от В.П. более двухсот писем!
Вика писал часто, хотя писать-то было особенно не о чем – штучки-мучки в магазинах, поездки и гости, ну и жизнь дома. Очень любил щегольнуть названиями станций парижского метро. Абсолютно неведомых мне, а ему как бы испокон веку знакомых. Или названиями улиц и улочек, сквериков и мостов. Писал мне, заскорузлому провинциалу, о Париже, как будто я там сто раз бывал, да ещё в его компании. Ему не хватало собеседника по плечу, вот он и жаждал общения. Я поначалу как бы поддакивал, делая вид, что всё ясно. Но потом постепенно действительно втянулся и начал разбираться во всех этих парижских ребусах и шарадах. По карте Парижа, расшифровывая чуть ли не по буквам статьи в знаменитом французском словаре «Ларусс», который В.П. прислал первой почтой!
Получена была и газетная вырезка – карта Женевского озера с указанием прибрежных вилл знаменитостей. Где-то возле терема Чарли Чаплина пририсовал В.П. красным карандашом стрелку – «Вот здесь я хочу жить!» Мы ликовали, хвастались соседям. Те вежливо завидовали, не слишком понимая что к чему.
Так же была не слишком понятна и вырезка из «Фигаро» с большой фотографией на первой странице – Галич, Некрасов, Максимов. Это было тогда крупнейшим событием – появиться на первой странице такой влиятельнейшей газеты, но мы, конечно, этого до конца не осознавали. Хотя и чувствовали, что дело незаурядное.
Письма доходили практически все.
Полагаю, что вначале власти решали, что делать с почтой: то ли пропускать всё, то ли частично, да и вообще, как вести себя дальше. Решили, видимо, пропускать, и правильно сделали, так как на протяжении полутора лет получали прямо в руки подробнейшую информацию о жизни, планах и настроениях Некрасова и его друзей.
По этой же, наверное, причине нам беспрепятственно разрешали звонить за границу. Наши оттуда тоже очень часто звонили, за казённый счет, конечно, из редакций и офисов. И я при этом во всех деталях рассказывал: когда вызывали, что говорили, как нам ответили…
Попав в Париж, Некрасов писал очень многим москвичам и киевлянам, но регулярно отвечала ему, насколько знаю, только Раиса Исаевна Линцер. Она с мужем, Игорем Александровичем Сацем, очень нас привечала. Мы с Милой останавливались у них, когда бывали в Москве. Хозяин со смаком и очень занятно, не придавая, как обычно, значения дикции, рассказывал и случаи из жизни, и небылицы. У него был простительный тик – всё время похохатывал, что поначалу сбивало с толку: думаешь, сказал что-то смешное.
– Ленин фантазировал, что у нас каждая кухарка будет управлять государством. Только забыли научить, как это делать! – с хохотом вздыхал Игорь Александрович. – Теперь мы имеем у власти кухаркиных детей!
Нас никогда не вызывали прямо в КГБ, сотрудники органов встречались со мной как бы случайно, то в милиции, то в прокуратуре, то в домоуправлении или на работе.
Так прошли первые три месяца.
Наконец все документы на выезд мы собрали, и я понёс их в ОВИР. И – вот те раз! Принимать их там отказались! Мол, жалуйтесь, если хотите, нам на это, сами понимаете, что…
Потом документы у нас всё-таки приняли, через две недели. Хотя в выезде тут же отказали…
Некрасов был единственным человеком в Киеве, которого неофициально, но всё же выслали. Больше вроде никого, разве что потом Леонида Плюща. А в нашей криворожской глухомани мы были самыми что ни на есть первопроходцами, заявившими, не скрываясь, что хотим уехать в Израиль! И уедем, бесстыдно твердили мы всем знакомым и малознакомым.
Наши местные начальники, конечно, были пугливо взбудоражены таким поведением, мол, это что, управы на них нет?! О вызовах в милицию или к прокурору сообщают в Париж. Работой не дорожат. Деньги законно хранятся на книжке. Голодом не возьмёшь, из квартиры не выселишь. И в тюрьму не отправишь – такая мера несвоевременна, как сразу разъяснили местным властям киевские органы. Родственники Милы тоже не поддавались на угрожающие намёки о прекращении общения с нами, хотя их-то легко могли попереть со службы… При этом посылки из Франции идут непрерывно. Деньги высылаются и через банк, и с посланцами. Звонят…
Телефонное время тратилось на преинтереснейшие разговоры о тряпках – что отправили, что получили, что подошло или пригодилось. Досаждали просьбами о женских париках – они были тогда очень модны, а при перепродаже приносили баснословный доход. Парики у нас считались парижской модой, хотя в самом Париже об этом никто не знал.