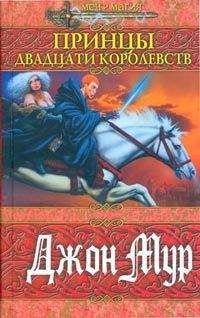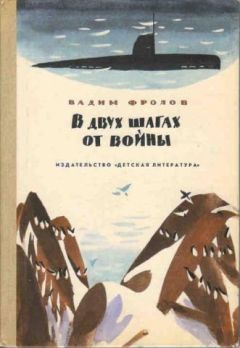Ходасевич Фелицианович - Белый коридор. Воспоминания.
Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками, с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдел (к тому времени в нем насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей), по улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль, — и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего нового, — но он утратил всё то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом.
Эта красота — временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга: там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад еще был прекрасен, и трава, кое-где пробивавшаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.
В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно. В смысле административном Петербург стал провинцией. Торговля в нем прекратилась, как всюду. Заводы и фабрики почти не работали, воздух был ясен и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд отчасти разъехался, отчасти просто стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Голод и холод не снижали этого подъема, — может быть, даже его поддерживали. Прав был поэт, писавший в те дни:
И мне от голода легко,
И весело от вдохновенья.
Быть может, ничего особенно выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла не мало обывательских навыков и пред которым поставила ряд серьезных вопросов, относилось к литературе с особым, подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики. Между тем, культурная жизнь Петербурга сосредоточивалась вокруг трех центров: «Дома Ученых», «Дома Литераторов» и «Дома Искусств», которые для нее служили прибежищами не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле, потому что при каждом из них были общежития, где разместились многие люди, сдвинутые революцией с насиженных мест. Каждый из трех «Домов» имел свой особый уклад и быт. Я расскажу о том, который мне был знаком особенно близко и непосредственно — о «Доме Искусств», или о «Диске», как иногда его называли. Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни: для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно — беллетристическая форма.
Помещался «Диск» в том тёмнокрасном доме у Полицейского (в старину — Зеленого) моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины XVIII столетия на этом месте находился деревянный Зимний Дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораниенбаум — свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался «Английский магазин», а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это неблагодарно с моей стороны (почему — будет сказано ниже).
Под «Диск» были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами (в одно — ход с Морской, со двора, в другое — с Мойки); третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр «Диска». Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам — концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родэна, к которому хозяин питал пристрастие — этих Родэнов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний; в ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий — переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле — Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. «Куча мала!» — на полу барахталось с полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем:
— А эта вот — наша новенькая студистка, моя подруга.
— А как фамилия?
— Б-ва.
— Да которая же? Тут и не разберешь.
— А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот, видите, нога в желтом ботинке? Это ее нога.
К гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с эитражами и камином — как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую «Дома Литераторов». Однако, и здесь часов с двух до пяти было оживленно: сходились сюда со всего Петербурга ради свиданий — деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные — роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них всё, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак — весь состав своего пайка, за исключением сахара, сахар он оставлял себе.
Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и свернув направо, попадали в ту часть «Диска», куда посторонним вход был воспрещен: в коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил кн. С. Ухтомский, один из хранителей Музея Александра III, немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым; жил пушистый седой старик Липгардт, говоривший всегда по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи «сертификатов» на старинные картины. Ходил анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного шедевра, просил Липгардта удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну, зачем Греко? — будто бы сказал Липгардт, — это же дутая величина! Уж давайте, я вам напишу, что это Тициан!»