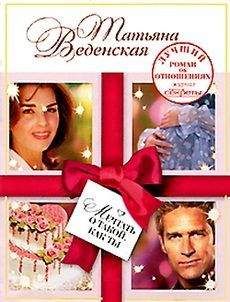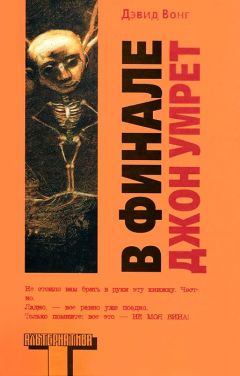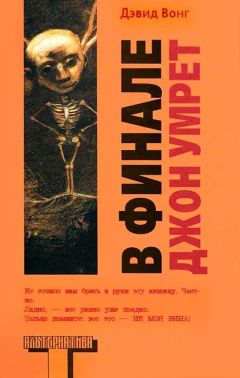Руслан Киреев - Пятьдесят лет в раю
После долгих раздумий я осторожно набрал номер заведующего отделом прозы Евгения Николаевича Герасимова. Это был благожелательный, со слезящимися глазами, старый, по моим тогдашним опять-таки понятиям, человек. К авторам, особенно молодым, он относился по-отечески заботливо, но мало что мог. Собственно, он-то и подвесил мой рассказ.
Трубку подняли сразу. Не подняли, а сорвали – я не узнал Евгения Николаевича: в нем подобной прыти не было. И уж совсем не узнал его голоса. Вместо ласкового вкрадчивого баритона прозвучала картавая скороговорка. Что-то вроде «Сац слушает». Видимо, не туда попал. Но на всякий случай вежливо осведомился, нельзя ли Евгения Николаевича. «Я – Евгений Николаевич», – тотчас раздалось в ответ.
Да, мистика мне чужда, но в тот день она явно преследовала меня. Сперва в почившего Саца превратился Главный редактор главного журнала страны, а теперь – заведующий отделом, который еще недавно сочувственно жал мне руку. Сочувственно – потому что понимал: рассказ подвешен навечно.
И все-таки мистики не было. Критик Игорь Александрович Сац, бывший секретарь Луначарского, действительно существовал, и не только в туманном прошлом, но и в солнечном настоящем. (В моей памяти тот летний день остался как один из самых солнечных дней моей жизни – и в прямом, и в переносном смысле слова.) Просто он исчез из поля зрения литературной общественности, вот кое-кто и решил, что некогда известный и влиятельный человек почил в бозе, однако ветеран отечественной словесности пребывал в добром здравии. Писал статьи о бывшем патроне, переводил западных философов и хлестал водку со своим старинным дружком Твардовским. «Поменьше пей водки, – полушутливо наказывал ему Александр Трифонович из Ялты, куда просил выслать любимые его сигареты „Ароматные“, для чего вложил в конверт ассигнацию. – Если пропьешь эти деньги – прокляну».
Берзер знала об этой дружбе, знала, что Твардовский внимательно прислушивался к своему старшему товарищу, а так как Сац только что стал членом редколлегии, уверенно и с некоторой, насколько я понимаю, ревнивой досадой бросила мне, что, коли речь идет о рассказе, то мнение Саца – все равно что мнение Твардовского. (Солженицын пишет, что Главный ее «несправедливо не любил».)
Все это я узнал позже, пока же, назвав себя, растерянно молчал. На том конце провода поняли мое состояние и все в том же игривом тоне объяснили, что Евгений Николаевич ушел на пенсию, а он, Игорь Александрович, «с пенсии пришел». (Оба были 1903 года.)
Итак, Твардовский бросил его «на укрепление» прозы, которой – жалуется он как раз в это время в письме к Валентину Овечкину – «острейшая нехватка», и Сац начал с того, что перечитал все подвешенные рукописи, остановился на моей и тотчас отбил мне телеграмму. «Редактирую ваш рассказ, – повторил он слова, которые я, разумеется, знал наизусть. – Когда можете приехать?»
Я не привык к такому темпу. Я вообще не привык к такому. «А когда надо?» – выдавил я. «Завтра», – последовал немедленный ответ. Завтра, причем не в редакцию, где разве дадут спокойно поработать, а к нему домой. «Можете?» Еще бы не мочь! «Тогда пишите адрес».
Да, мистики не было, но само появление рассказа – такого рассказа! – и поныне вызывает у меня, признаться, некоторую растерянность. Ни до, ни после я ничего подобного не писал.
Городской мальчик, который на селе бывал лишь наездами (в техникуме «на кукурузу» посылали, да в институте «на картошку»), вдруг пишет историю деревенской девушки, уехавшей из родного колхоза в районный центр. Там она работает в автопарке (вот тут уж я ориентировался неплохо), а по выходным навещает родителей. Отец умирает, мать, преждевременно состарившись от непосильной работы, остается одна, и дочь, приехав однажды в неурочное время, в будний день, видит, как тяжело ей. Вернуться? Но ей здесь все опротивело: и памятный с детства мерин Дурной – обидную кличку эту она осознала, когда прибывший на похороны брат отца спросил удивленно, за что его так; и бригадир Аморин, горбатый, большелобый, пожилой, всю жизнь проживший бобылем мужик, у которого из-под незастегнутого плаща вечно торчит фуфайка, а из-под фуфайки курточка; и разбитная Мария Рожкина со своим неизменным вопросом, почему замуж не выходит. «Аль в городе женихов, что тута, один Сережка Беспалый?» Нет, вернуться, причем навсегда вернуться, она не в состоянии. Забрать мать в город к себе? Но куда, куда? В городке у нее лишь койка в комнате, где живут еще две девушки, а зарплаты едва хватает на одежду (правда, модную) да скудную еду. Из дома каждую неделю привозит то мамино маслице, то яички.
Эти подробности я не выдумал и не вычитал из книг. Все собственными глазами видел – в своей первой журналистской командировке, в которую отправился от «Крокодила» во время зимних каникул. Далеко не послали, боясь, видимо, что не оправдаю расходов, лишь на соседнюю Калининскую область расщедрились. (Ныне Тверскую.) Но я не подвел редакцию. Собрал за неделю столько материала, что его хватило и на маленький фельетон для поверившего мне сатирического журнала, и на большой рассказ, увидевший свет в серьезном, почти академическом «Новом мире».
Но ведь Твардовский, гордившийся своим крестьянским происхождением, не мог клюнуть на материал, который «добыл» за пять или шесть дней 23-летний городской фанфарон. Правда, справедливости ради надо сказать, что я не добывал его – просто жил в доме своих будущих героев; жил, пил с хозяйкой чай, подолгу разговаривал с нею, внимательно рассматривал фотографии и перебравшейся в город дочери, и покойного мужа… Однако ни подробности, пусть и точно увиденные (не всегда; кое-что Твардовский, уже читая отредактированный Сацем рассказ, исправил), ни верно схваченные словечки, ни общее положение дел в деревне, которое я, разумеется, не приукрашивал, но и не драматизировал, не могли сами по себе привлечь журнал, в котором был уже напечатан «Матренин двор» Солженицына, в котором публиковали свои вещи Федор Абрамов и Владимир Тендряков. Что же в таком случае привлекло? Тогда я не задумывался об этом. Я праздновал, просто ликовал и праздновал, а не задавал себе праздных вопросов. Но теперь этот вопрос для меня отнюдь не праздный, и, мне кажется, я знаю ответ на него.
Константин Воробьев в воспоминаниях о Твардовском рассказывает, как тот объяснил ему, почему решил напечатать «Убитые под Москвой». «В своей повести вы сказали несколько новых слов о войне».
Какие же новые слова, пусть всего несколько, сказал в своем рассказе я? Ответ Александра Трифоновича прозвучал еще тогда, просто я не расслышал его, не придал ему значения, не понял. Да, собственно, он и не прозвучал, а был написан рукой Твардовского на моей испещренной помарками рукописи. Прежнее название рассказа – «В гостях и дома» – было жирно, даже как бы с раздражением зачеркнуто, а сверху стояло: «Мать и дочь».