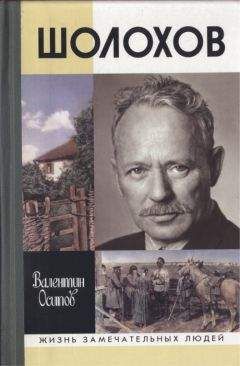Андрей Воронцов - Шолохов
Михаил сбивчиво, заикаясь от смущения, начал каяться. Исповедовался он последний раз еще до того, как сошелся с распутной Марьей, а были после этого еще и жалмерки, и лишенная девичьей чести гордая Настя, и созданный им образ попа, прислужника белых, в пьесе «Генерал Победоносцев», не говоря уж о грехах помельче — табаке, самогоне… К концу исповеди покрылся он обильно потом, несмотря на то, что в сыром подвале было совсем не жарко.
— Вот, брат мой Михаил, — тихо говорил отец Михаил, приняв его покаяние, — ты, наверное, когда сидел один, думал: за что же это все мне, такому молодому? А ты, даром что молодой, и нагрешил немало. Как влага сочится из сосуда, который дал трещину, так и благодать уходит из души, подверженной греху. Бойся потерять душу христианскую. Никто тебя тогда не защитит. Теперь пришло время великих соблазнов, и редкий мирянин может сохранить себя в чистоте. Да и кто без греха? Но помни: даже если и оступился, дальше по этой дорожке не ходи, ждет тебя там погибель. Мы перед Резниками беззащитны, когда ослаблены грехами нашими. Ну что же, раб Божий, будем отходить ко сну? Утро вечера мудренее, как издавна говорили на Руси.
После разговора с батюшкой и исповеди Михаил успокоился. Он лежал на спине, подложив руки под голову, и не думал более о возможной близкой смерти. Отец Михаил шептал в темноте молитвы на сон грядущим. Михаил подумал было, не присоединиться ли и ему, но сознание его уже мягко закачалось на волнах сна. Он успел подумать с запоздалым раскаянием, что так и не спросил батюшку, за что его самого посадили сюда и что ему угрожает. Ведь если за сопротивление вскрытию мощей или анафему «живоцерковникам» — так это тоже расстрел… Но мысль эта, мелькнув, тут же погасла. Он легко и покойно заснул.
Проснулся Михаил оттого, что кто-то грубо тряс его за плечо. Он открыл глаза и в полутьме увидел над собой усатое лицо охранника — знакомого казака из Вешенской.
— Да вставай же ты, едрит твою раскудрит! Кричу ему, а он все дрыхнет и дрыхнет. Небось, не у бабы на перине! Ишо уснешь вечным сном, как отведут тебя в балочку!
Михаил поднялся, хрустя ноющими от жесткого ложа суставами, бросил взгляд на соседний тюфяк. Он был пуст.
— А где же батюшка? — быстро спросил он у охранника.
— Какой ишо батюшка? Сбрендил? Бывает… Посидит-посидит тут человек и сам с собой гутарить начинает. «Батюшка»! Иди вперед. Руки возьми за спину.
Поднимаясь наверх, Михаил даже не думал о том, что его, возможно, ведут на расстрел, настолько поразительным было то, что сказал конвоир.
— А ты когда заступил в караул? — спросил он у него, обернувшись.
— А ну-ка не оборачиваться! — Охранник сдернул винтовку с плеча, ткнул его холодным штыком между лопаток. — Разговорчики! Сказано тебе — иди! Хочешь пулю в затылок? Караулы его антересуют! Будет тебе караул!
Голос у того, вчерашнего, что привел отца Михаила, был вроде другой… Этот, вешенский, сменил его, наверное, утром, когда батюшку уже увели… Куда увели? На расстрел? Куда же еще — ранним утром… А он — проспал… Но тут же в голову его закралось сомнение, что новый караульный не знает, кого приводили ночью и уводили утром. Ведь они же записывают всех арестованных в какой-то журнал, докладывают, сдавая пост, о происшествиях за смену. Не может же быть так, что если заключенного увели во время чужого дежурства, то его вроде как бы и не было!
— Стой! — приказал ему конвоир в коридоре наверху. — Лицом к стене! — И постучал в какую-то дверь.
В комнате сидел молодой парень — немногим старше его самого, — с орденом Боевого Красного Знамени на гимнастерке, с отпущенным по-казацки светлым чубом. Он внимательно посмотрел на Михаила.
— Садись, — наконец сказал он ему и отпустил конвоира. — Будем знакомиться? Погорелов Иван Семенович, член окружной коллегии ГПУ.
— Шолохов Михаил.
— Почему ты отказался отвечать на вопросы товарища Резника?
— Товарищ Резник…
— Для тебя — гражданин, — строго поправил его Погорелов.
— Пусть будет — гражданин. Так вот — этот гражданин явно неровно ко мне дышит. Два года он уже меня пасет, придирается ко всяким мелочам, а почему — не знаю. Может быть, потому, что слесарем работал на мельнице, где мой отец был управляющим? Поэтому я попросил другого следователя, чтобы справедливо во всем разобрался.
— Товарищ Резник говорит, что твой отец был не управляющим, а хозяином мельницы.
— Хозяином он стал в 1917 году, когда бывший хозяин, купец Симонов, распродал все по дешевке и смылся. Но Резник к тому времени уже там не работал.
— А сколько это — по дешевке? — вкрадчиво поинтересовался Погорелое.
— Не знаю, это вы у отца лучше спросите. У него тогда мать умерла, оставила ему какие-то деньги. Сами мы не смогли бы купить мельницу и по дешевке.
— Что значит — «сами не смогли бы»? Деньги-то семейные. Значит, сами и смогли. Отец-то из купеческого сословия, что ли?
— Дед купцом был, да разорился. А отец до мельницы своего дела не имел, служил по торговой части. Мельницу эту, как советская власть пришла, мы сдали от греха подальше. А сейчас нэп, снова частники мельницы к рукам прибирают. Мы же и не помышляем, а нам все — мельники, мельники!
— И что же — у товарища Резника, когда он там работал, с твоим отцом столкновения были?
— Не было у них никаких столкновений! Наоборот, отец знал, что Резник организовал среди рабочих подпольный кружок, что читают запрещенную литературу, и не донес хозяину!
— Так, может, у тебя с ним были столкновения?
— Да я же от горшка два вершка был! Какие у меня могут быть столкновения со взрослым человеком? Я на этой мельнице целыми днями торчал — нравилось мне смотреть, как люди там работают. Может, и мешал кому, но не помню, чтобы гражданин Резник хоть раз меня прогнал. Он тогда такой вежливый, внимательный был, все показывал, рассказывал…
— Стало быть, вы друзьями были? — засмеялся, сверкнув белыми зубами, Погорелов.
— Друзьями — не друзьями, а ссор не припомню. А вот когда в двадцатом году снова встретились с гражданином Резником, он мне вдруг сразу — «мельник», «сын мельника»! Еще тогда вопросы с подковыркой стал задавать. А мне всего пятнадцать лет стукнуло. Дальше — больше. Его послушать — чуть ли не я виноват, что Махно на Каргинскую налетел! Может, я еще банду Фомина организовал и мятеж в Кронштадте поднял?
Смешливый Погорелое снова захохотал, вытирая слезы костяшками пальцев.
— Вот и подумал я: какой смысл мне отвечать на его вопросы? Все равно напишет все, что ему надо.
— Ты, Шолохов, артист, смешно излагаешь. Я пару раз на ваших спектаклях в Каргинской бывал. Здорово играли! Почему перестали-то?