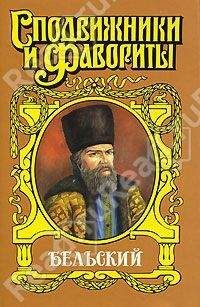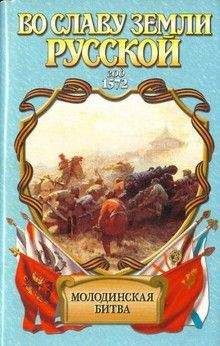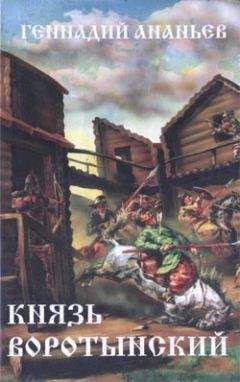Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
Первый класс, куда я поступил осенью 19-го года, вела Софья Семеновна Макшеева. Она стала учительницей от нужды и с горя. Ее муж, Владимир Николаевич Макшеев, помещик Перемышльского уезда, отказался от своей доли имения в пользу сестры. Много лет служил он в Польше комиссаром по крестьянским делам, выслужил большую пенсию и поселился в Перемышле, во флигельке у сестры, которая к тому времени продала имение и выстроила себе в городе дом с мезонином и флигель. Единственная дочь Макшеевых, Сонячка, училась в Москве, на историко-филологическом факультете Высших женских курсов. Перед самой революцией она заболела чахоткой. Курсы пришлось оставить. Помню ее, обложенную подушками, золотистоволосую, с точно кистью наведенными рдяными кружками на щеках. «Какая же она больная? – подумал я. – Больные бывают бледные». Начавшаяся голодуха ускорила кончину Сонички: весной 19-го года, во время разлива, она умерла.
Софья Семеновна заходила к нам, мы встречались с ней на улице, на кладбище, в окрестностях города, и я ни разу не видел у нее ни одной слезинки. Она улыбалась своими большими глазами, лучившимися на ее некрасивом, желтом, высохшем до пергаментной сухости лице с чересчур крупными чертами, шутила, но даже я, мальчуган, чувствовал, что в сердце у нее залегла тихая неизбывная скорбь. Она не носила траура. Идешь, бывало, межою и видишь, как над колосьями ржи словно вьется большой мотылек. Это – белая косынка Софьи Семеновны, это она в белом платье бродит одна по полям. Вечерами она ходила в гости – правда, только к близким знакомым, – была разговорчива. Но когда кто-нибудь неосторожно дотрагивался до ее раны, она вздрагивала. «Не надо!..» – просила она. Ей хотелось быть наедине со своим горем, и она никого не подпускала к нему. Горе не отдалило ее ни от Бога, ни от церкви. Войдя в церковноприходской совет храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, она перед самой Пасхой 20-го года возродила распавшийся было хор. По просьбе Софьи Семеновны управлять хором взялся служивший в Наробразе, а впоследствии заведовавший им Владимир Петрович Попов. Прежде он пел тенором в том же хоре и помогал регентам. На просторе его талант раскрылся и развернулся, в хор влились лучшие голоса, и светлый праздник показался прихожанам еще светлее. А для меня с этим хором связаны одни из самых неколебимых и самых прекрасных воспоминаний моего детства, да не только детства, но и всей моей жизни.
Теперь, когда я вызываю в воображении мои первые шажки в школе, я отдаю себе отчет, что Софья Семеновна была учителем-дилетантом. Уроки Софьи Семеновны, вероятно, не выдержали бы методической критики. Но она приучила нас не бояться школы, она помогла нам создать помимо круга домашних интересов круг интересов школьных. Нас тянуло в школу, потому что нам было там уютно и весело, мы пропускали уроки нехотя.
Я не помню, чтобы Софья Семеновна рассердилась на кого-нибудь из нас за плохой ответ, за невыученный урок. А шалить мы у нее не шалили. Шалил на переменах только Петя Гришечкин, потому что баловником он на свет родился. И он был любимцем Софьи Семеновны. Если к ней поступала жалоба, что кто-то из ее учеников нечаянно разбил в соседнем доме окно или умышленно залепил снежком в прохожего, она спрашивала:
– Кто это сделал?
И всякий раз поднимался Петя и, глядя Софье Семеновне прямо в глаза, своим хрипловатым голосом отвечал:
– Это я, Софья Семеновна.
За правдивость Софья Семеновна прощала Пете все его «подвиги».
А проучились мы у Софьи Семеновны всего один учебный год. Осенью 20-го года она слегла и уже не встала. Своим близким друзьям, в том числе – моей матери, Софья Семеновна призналась, что, окончательно удостоверившись в призрачности своих надежд на выздоровление Сонички, она решила от нее заразиться – и добилась своего: ровно два года спустя после смерти дочери, весной 21-го года, как и дочь – в половодье, она умерла от чахотки. Как хоронили Софью Семеновну – не помню. Помню только блуждающий, пустой взгляд Владимира Николаевича. Помню, что он все делал не так, как требовалось по обряду. Помню, что при выносе он стоял на самом ходу, пока его не попросили посторониться, беспомощно держал в левой руке свою измятую шляпу пирожком, а в правой – табуретку, не зная, куда ее девать.
После смерти Софьи Семеновны Владимир Николаевич несколько лет прожил бобылем в Перемышле. Почти все воскресные вечера проводил у нас. Когда он рассказывал о Польше, я превращался в слух. Запомнилось мне, что он, разбирая земельную тяжбу Генрика Сенкевича с крестьянами, стал на сторону крестьян, и пану Сенкевичу, по словам Владимира Николаевича – сутяге и жмоту, пришлось-таки отдать «хлопам» незаконно присвоенную им землю.
Одно время Владимир Николаевич служил в исполкоме, потом его сократили. Пенсия была у него уже не прежняя: он получал всего-навсего двенадцать рублей, на каковую сумму и при НЭПе и даже в уездном городе не очень-то можно было разъехаться. Его настойчиво звала к себе в Полтаву племянница. Наконец Владимир Николаевич решился покинуть родные места и в 26-м году уехал из Перемышля. Переписывался он с нами почти до самой смерти, а умер в 33-м году от голода, которым Сталин, под метелочку вычистив в «колгоспах» хлеб, покарал Украину за то, что она посмела не выполнить план хлебозаготовок…
Юра Богданов отзывался о Белове так: «Математика и Александр Михайлович – это верх совершенства». Я не учился у Александра Михайловича – он уехал из Перемышля до того, как я перешел во «вторую ступень», но бывать у нас он начал, еще когда существовало высшее начальное училище и он являлся непосредственным начальником моей матери. Он дал ей немало добрых советов на первых порах ее провинциальной педагогической деятельности в мужском учебном заведении, где поддерживать дисциплину было куда труднее, нежели в московском институте «для благородных девиц».
Александр Михайлович был выше среднего роста, осанистый, представительный. Глядя на него, никто бы не подумал, что он – из купеческого сословия. Каштановый, с проседью, бобрик и аккуратно подстриженная борода подчеркивали строгую правильность черт, и строгость эту еще усиливали очки в золотой оправе. В его манере держать себя, в его походке не чувствовалось ничего выработанного, деланного. Ходил он – вернее, выступал – чинно, заложив руки за спину. Говорил с внушительной неторопливостью. Я представлял себе, что вот так же спокойно и веско объясняет он ученикам на уроках. Математика воспитала в нем стройность мышления. По словам тех, кто у него учился, его уроки походили на чертежи. Он был непогрешим в исполнении своих обязанностей и требовал такой же исправности от подчиненных. Вернее, он ничего не требовал. Он не прибегал к проборкам, головомойкам, взбучкам и распеканциям. Он не корчил из себя начальства. Он только подавал пример. И учителя просто не представляли себе, как можно опоздать на урок, хотя они отлично знали, что, кроме удивленного взгляда, Александр Михайлович никаких других мер к опоздавшему не применит. Знали и ученики, что у Александра Михайловича «не забалуешься», – старшие братья внушали это младшим. И когда от революционного взрыва порядок в школе взлетел на воздух, то никто из учителей так болезненно не переживал катаклизма, как Александр Михайлович. Его не так удручали голод, холод и то, что, отказавшись возглавить «Единую трудовую», он вынужден был оставить свою просторную, светлую, с не по-уездному большими окнами, квартиру при школе и снять на двоих комнатушку в Завершье, откуда до школы путь был не легкий и не такой уже близкий, как удручал хаос на месте им сотворенного разумного мира. Он был воплощенная честность и в самом простом, и в самом высоком смысле этого слова И он с ужасом глядел не только на развал, не только на бестолочь, но и на порожденные голодовкой плутовство и пройдошество. Заведующий Уездным продовольственным комитетом (Упродкомом) Иванков хапал почем зря, жрал в три горла и равнодушно смотрел своими косыми глазами («Бог шельму метит», – говорили про него перемышляне), как бедствуют врачи, учителя, канцелярские служащие с семьями. И Белов, дивясь прозорливости Алексея Константиновича Толстого, вспоминал его строки: