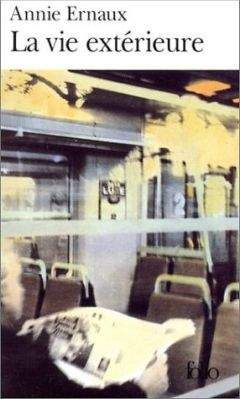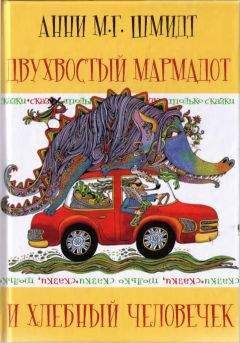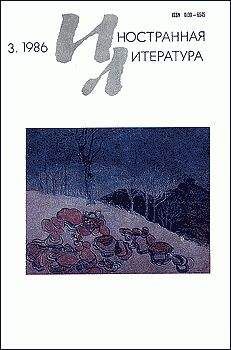Анри Труайя - Лев Толстой
По возвращении горцы, как и следовало ожидать, атаковали колонну в лесу. Русские отвечали им. Охваченный патриотизмом, Толстой обратил внимание на то, как русская храбрость, молчаливая и возвышенная, отличается от показной французской, которую олицетворяли для него участники сражения при Ватерлоо. «И как же после этого не болеть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству?» – спрашивал он в «Набеге». Понемногу перестрелка затихла, отряд тронулся в путь и вернулся к месту дислокации, где Лев был в высшей степени рад услышать, что генерал Барятинский оценил спокойное поведение «молодого гражданского» во время схватки. Но сам доволен не был – не мог забыть, как грабили аул, о трех погибших и тридцати шести раненых, и думал о том, как прекрасно жить на свете, как красива природа и как плохи люди, раз не могут оценить того, что им дано.
В Старом Юрте Толстой снова пытается писать воспоминания детства, но ему кажется, что никогда не хватит терпения завершить их. «Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова – фразы; но разве можно передать чувство. Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно. Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастие с несчастием?» – замечает он в дневнике.[88] Предаваясь мечтам, вспоминает Зинаиду Молоствову, с которой расстался в Казани, не осмелившись признаться в любви. «Неужели я никогда не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жалче, увижу ее в чепце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом. Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастие; но я все-таки влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня… Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества и от этого, может быть, лишусь счастия».[89]
Спустившись на землю, не думает больше о женитьбе, а всерьез рассматривает возможность поступить на военную службу, хотя и не торопится с решением. В начале августа полк возвращается в Старогладковскую, и Лев, воспользовавшись передышкой, в который раз обращается к своим правилам для жизни: «28-го рождение, мне будет 23 года; хочется мне начать с этого дня жить сообразно с целью, которую сам себе поставил. Обдумаю завтра все хорошенько, теперь же принимаюсь опять за дневник с будущим расписанием занятий и сокращенной Франклиновской таблицей… С восхода солнца заняться приведением в порядок бумаг, счетов, книг и занятий; потом привести в порядок мысли и начать переписывать первую главу романа.[90] После обеда (мало есть) татарский язык, рисование, стрельба, моцион и чтение».[91]
Быть может, снова занося в дневник эти предписания, Толстой думал о матушке, о которой у него не сохранилось никаких воспоминаний – в юности она тоже тщательно фиксировала свои поступки и жесты, записывала назидательные, душеспасительные изречения и мечтала, что правила нравственные будут сродни тем, что применимы в точных науках. Делая это, молодая женщина мечтала прежде всего о счастии близких ей людей, тогда как сына ее, всегда полагавшего себя выше других, занимало лишь собственное совершенствование.
Жизнь в Старогладковской, хотя и спокойная, скучной не была. Помимо природы, к которой он понемногу привык, Льва увлекала психология окружавших его людей, у которых не было ничего общего с терпеливыми и хитроватыми мужиками из Ясной Поляны. Казаки, никогда не знавшие рабства, превыше всего ставили свободу и отвагу. Они с меньшей ненавистью относились к горцам, убивавшим их братьев, чем к простым русским солдатам, которые жили рядом и помогали им защищаться. У казаков было превосходное оружие, лучшие лошади, которых они покупали или отнимали у врага, привычки которого и язык перенимали не без некоторого бахвальства – «этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением».[92] Во всех станицах, рассеянных по берегам реки, мужчины проводили время одинаково: на сторожевых вышках, в походах, за ловлей рыбы и охотой. Домашней работой занимались женщины, и хозяйками в доме были они – хотя казаки и пытались, пусть только внешне, обходиться с ними на восточный манер, как с рабынями, тем не менее уважали и побаивались их. Женщины одевались как черкешенки, в татарские рубахи, короткие стеганые полукафтаны, мягкую обувь без каблуков, но платок на голове завязывали по-русски. Жилища отличались чистотой. В отношениях с мужчинами девушкам предоставлялась большая свобода.
Лев жил у старого казака по имени Епишка (Епифана Сехина), который с самого начала проникся к нему дружеским расположением. Девяностолетний Епишка был огромного роста, с грудью колесом, широченными плечами и широкой белой бородой. Пленившийся им Толстой вывел его в повести «Казаки» почти без изменений в образе дяди Ерошки: «На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи поршни[93] и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес чрез одно плечо кобылку[94] и мешок с курочкой и кобчиком[95] для приманки ястреба; чрез другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтобы отмахиваться от комаров, большой кинжал с порванными ножнами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана».[96] Постоялец проводил долгие вечера со своим хозяином, который, выпив, становился словоохотлив. Положив локти на стол, с раскрасневшимся лицом, горящими на морщинистом лице глазами, Епишка говорил без умолку, а вокруг него стоял «сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю,[97] водки, пороху и запекшейся крови».[98] Он рассказывал о своей шальной юности, сражениях, охоте. Никогда казак не работал руками, природа всегда сама заботилась о его пропитании. Этот пьяница и разбойник воровал лошадей и не боялся ни зверей, ни людей: «Посмотри на меня, я беден, как Иов, у меня нет ни жены, ни сада, ни детей, ничего – только ружье, сеть и три собаки, но я никогда не жалуюсь на жизнь и никогда не пожалуюсь. Я иду в лес, смотрю по сторонам – все, что меня окружает, мое. Я возвращаюсь домой и пою». Льву, который не переставал задаваться вопросами о добре и зле, он с громким смехом говорил: «Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает».[99] По его словам, нет ничего противоестественного в том, чтобы соблазнить молодую девушку, и старик с легкостью доказывал это утверждение. Он и гостю предлагал в этом помочь. И так как молодой человек вяло этому сопротивлялся, восклицал: «Грех? Где грех? На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, Бог и девку сделал. Все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она и сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться».[100]