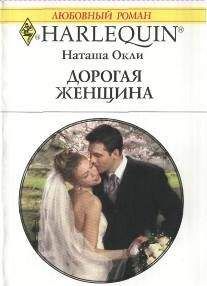Петр Вайль - Стихи про меня
Когда появился алкоголь с настоящего Запада, отношение к нему прошло все положенные этапы, начиная с восторженной некритичности: здоровенные мужики под рыбца принимали "Амаретто". Потом увлеклись ритуальной стороной дела: поджиганием сахара для абсента, облизыванием лайма с солью под текилу, забрасыванием кофейных зерен в самбуку. Усложненность питьевого обряда для не пьющего запойно американца или европейца (пожалуй, только ирландцы и шотландцы робко приближаются к российскому уровню) восполняет содержание формой. Взять хоть десятки рюмок и бокалов для разных напитков в любом приличном баре: никто не ошибется, налив джин-тоник в сосуд для мартини. Не зря толстая книга-пособие называется "Библия бармена".
Русскому человеку ритуальные новшества потрафили уважительным отношением к выпивке, подтверждая краеугольную мысль: алкоголь — это идея.
Сам-то русский обряд сводился к всегда достоверным и у каждого своим правилам питья: что "не мешать", как "повышать градус" или "понижать градус", после чего "никакого похмелья". Все рассуждения, иногда даже разумные, разбиваются о количество — как в той довлатовской истории о нью-йоркском враче, который так и не поверил, что это скромная правда: литр за присест. Градус менять можно и нужно в течение застолья, но на уровне третьей бутылки перестает действовать не только арифметика, но и дифференциальное исчисление. Мешать очень допустимо, даже водку с пивом, но не в одном стакане.
И — не разделять еду и питье. Суть европейского подхода в том, что крепкий алкоголь обычно пьется до или после еды, а вино — часть трапезы. Понятно, что выпивка как идея на этом пути исчезает. Войдя в состав чего-то утилитарного и повседневного, выводится из закромов белой или любой другой магии, переходит из категории бытия в категорию быта. Ни "Москву— Петушки", ни "Москву кабацкую" не написать.
...Уже в третий раз выполняя заказ по "Москве кабацкой", я констатировал, оглядывая зал клубного буфета: "Снова пьют здесь, дерутся и плачут", как из угла окликнули:
— Слышь, военный, иди выпей, хорош читать.
— Сами же хотели.
— Хотели-перехотели. Иди выпей.
Чувствуя себя непонятым поэтом, сел под огромной картиной в блестящей, недавно посеребренной раме — не разобрать, Айвазовский или Шишкин, какая-то природа. Мне налили, на высоких тонах продолжая свой прерванный разговор.
— Так я захожу, а у него там всё — горюче-смазанные материалы, карасин, масло импортное, ну всё...
Выпил, бормоча про себя: "Шум и гам в этом логове жутком..."
— Чего ты? Чего не нравится?
— Да нет, это строчка, из Есенина.
— Хорош с Есениным. Заманал уже.
Шум в самом деле такой, что и музыки не слышно, не то что стихов. За соседним столиком истошные вопли:
— Я тебе, бля, авиатор, а не какой-нибудь пиджачок!
— Давай-давай, рассказывай!
— Нет, Рома, ты понял?
— Я, конечно, Рома, но не с парома!
— Нет, ты понял? В первые годы XX века Ремизов еще сомневался: "Жизнь человека красна не одним только пьянством". Итог столетию подвел Жванецкий: "Кто я такой, чтоб не пить?"
СЛОВО "Я"
Владислав Ходасевич 1886-1939
Перед зеркалом
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем — так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.
1924
Бродский, которого нельзя представить произносящим "мое творчество" или "моя поэзия", только — мои стишки, который в разговоре мог с усмешкой именовать себя "моя милость", чтобы лишний раз не употреблять "я". Не стоит и говорить о его автопортретах: "глуховат", "слеповат", "во рту развалины почище Парфенона" и т. д.
По-ходасевически нелицеприятный взгляд на себя — у Лосева: "А это что там, покидая бар, / вдруг загляделось в зеркало, икая, / что за змея жидовская такая? / Ах, это я. Ну, это я .бал". Или более сдержанно: "А это — зеркало, такое стеклецо, / чтоб увидать со щеткой за щекою / судьбы перемещенное лицо".
Мотив Ходасевича сильно звучит у Гандлевского, с его мужественным снижением авторского образа "недобитка" до откровенно выраженной неприязни к себе: "Пусть я в общем и целом — мешок дерьма..." или "а я живу себе покуда / художником от слова "худо". Гандлевский через три четверти века словно воскрешает того — почти пугающего и едва знакомого взрослому поэту — мальчика, танцевавшего на дачных балах: "и уже не поверят мне на слово добрые люди / что когда-то я был каждой малости рад / в тюбетейке со ртом до ушей это я на верблюде / рубль всего, а вокруг обольстительный Ленинабад". Критик в 1922 году, отметив "странную, старческую молодость" Ходасевича, будто знал, что спустя восемьдесят лет Гандлевский откликнется: "Мою старую молодость, старость мою молодую..."
Всего тридцать исполнилось Ходасевичу, когда он написал: "Милые девушки, верьте или не верьте: / Сердце мое поет только вас и весну. / Но вот, уж давно меня клонит к смерти, / Как вас под вечер клонит ко сну".
Помимо прочего, замечателен тут повествовательный ритм и размер: по звучанию — проза, но по плотности текста — безусловная поэзия. Сухость и прозаичность стиха всегда отличали Ходасевича, и лучший критик русского зарубежья Георгий Адамович сетовал, что "стилистическая отчетливость куплена Ходасевичем ценой утраты звукового очарования... Он реалист — очень зоркий и правдивый. Но внешность нашей жизни в его передаче теряет краски и движение".
Интересно, сознательно или случайно Адамович повторил тютчевские слова, приложенные к России: "Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья — / Жизнь отошла — и, покорясь судьбе, / В каком-то забытьи изнеможенья, / Здесь человек лишь снится сам себе". Тютчеву было пятьдесят шесть, когда он вынес на бумагу эту отчаянную горечь. Ходасевич с такого начинал: "В моей стране - ни зим, ни лет, ни весен. / Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей. / Там круглый год владычествует осень, / Там — серый свет бессолнечных лучей". Ему двадцать один год, это его первая книга, называется "Молодость", как ни странно; "В моей стране" — первое в первой книге стихотворение: знакомьтесь.