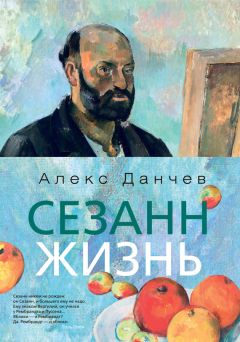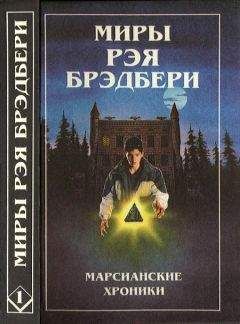Сезанн. Жизнь - Данчев Алекс
Описывал ли он всерьез эту духовно-нравственную иерархию? Возможно, и так. Хотя ирония у Сезанна – практически во всем; он был остроумнее и тоньше большинства собеседников. С возрастом, углубившись в себя, он многое открыл. Но, чувствуя собственные силы, он все же был уязвим. И оставался начеку в ожидании «хищников», которые могли вонзить в него свои когти («Le bougre, il voulait me mettre le grappin dessus!» [32]), – вот только распознавать их он не умел. И не мог доверять ни мужчинам, ни женщинам; подозрительность распространялась как на les bougres, так и на les bougresses [33]. Дело тут не в женоненавистничестве или в неврозе. По прошествии времени робость ушла, но сдержанность осталась. Остались и перепады настроения, усугубившиеся впоследствии, когда проявились признаки диабета. Вскормленный иллюзиями, он, по собственным словам, жил ощущениями и умосозерцанием. Сезанн-пророк был еще и букой – щетинился, точно еж, как говорил Ренуар. Он не стал мягкотелым и не заматерел. В плане поведения жизнь его ничему не научила. Друзья замечали, что с возрастом он не становился более зрелым, но по мере прибавления лет – менее застенчивым и более свободным. В нем была особая простота; но простота, дополненная утонченностью, погруженностью во внутренний мир, драматизмом жизни внутри жизни, как писал Бальзак, и это нельзя свести к слабодушной психопатии.
Ко времени «Салона отверженных» 1863 года его представление о собственном месте и самих возможностях живописи заметно расширилось. Салон тогда проводился по принципу биеннале; ничего подобного со времен «шикарной выставки» 1861 года Сезанн не видел. В 1863‑м беспощадное жюри отвергло почти три тысячи примерно из пяти тысяч предложенных работ. С таким размахом вещи еще не «отбраковывали». В список отвергнутых вошли Бракемон, Казен, Фантен-Латур, Готье, Арпиньи, Йонгкинд, Легро, Мане, Писсарро и Уистлер, хотя Мане за два года до того удостоился похвал. Курбе проходил вне конкурса (его участие не зависело от решения жюри), но одну его работу отмели «по соображениям нравственности». Художники и их поклонники были возмущены. Дирекция потонула в потоке жалоб. Поднялся такой шум, что сам император соизволил явиться во Дворец промышленности на Елисейских Полях, чтобы ознакомиться с непринятыми произведениями. Вызвали главу музейного управления (оказавшегося также председателем жюри) графа Ньюверкерке, и дипломатический компромисс был достигнут. Вердикт жюри остался в силе, но была организована выставка отвергнутых работ, которая разместилась в другой части здания – в пристройке, как объявили не деликатничая, – и открылась через две недели после основного события. Эта необычная выставка давала возможность выбора: участвовать в ней имели право все отвергнутые художники, если только они не предпочли забрать свои картины. Иными словами, альтернатива Салона – «Салон отверженных» должен был представить всю живопись за последний период (за исключением запрещенного Курбе). Это была значимая уступка. Сезанн готов был признать, что император, в конце концов, не так уж плох {252}. Но многие художники испытывали смешанные чувства. «Салон отверженных» смахивал на пародию. Эрнест Шено назвал его «Салоном поверженных».
Посетители тысячной толпой стекались к пристройке, всем не терпелось увидеть, из-за чего весь сыр-бор. В центре внимания оказалась картина Эдуарда Мане, вполне безобидно названная «Купание» («Le Bain»). Это полотно, более известное как «Завтрак на траве», и вызвало то, чего все, за исключением, пожалуй, самого художника, жаждали и боялись: скандал. Многие зеваки начинали хохотать. Но глубоко оскорбленных было еще больше. Даже император высказался и назвал вещь «нескромной» – она действительно была оскорблением скромности, или pudeur [34]. И не только потому, что на траве сидела обнаженная женщина, абсолютно невозмутимо, почти соприкасаясь с двумя разодетыми господами; негодница еще и посылала с полотна уставившемуся на нее зрителю равнодушный взгляд, в то время как мужчины продолжали беседу. Дерзкая «открытость» шокировала, к тому же картина казалась совершенно «плоской» – как в эмоциональном, так и в живописном отношении: фигуры словно приклеили к фону. «Напрасно я ищу хоть какой-то смысл в этой нелепой загадке», – пришел к выводу Луи Этьен, и, возможно, оказался близок к истинной причине неприятия {253}. «Завтрак на траве» был не просто нарушением норм: картина в целом была «неправильной». Она казалась откровенно неприличной и совершенно непонятной. Как и в большинстве лучших работ Мане, здесь не предлагалось правдоподобного или приемлемого сюжета. Вещь не воспринималась как однозначный образ («Полулежащая обнаженная») и не вызывала описательных ассоциаций («Женщина, читающая письмо»). Оставалась только приковывающая внимание мизансцена и беспорядок, характерный для пикника. В этом были одновременно бесстрастность и бесстыдство, невозмутимость и кичливость, строгость и дерзость, классика и отрицание условностей. О картине моментально пошли разговоры.
Безусловно, Мане проявил дерзость. И замысел был не менее смелым, чем исполнение. Классический контекст возник не случайно: в сущности, это было повторение. В «Завтрак на траве» вошел фрагмент гравюры Маркантонио Раймонди, созданной по мотивам «Суда Париса» Рафаэля (ок. 1510–1520). Мане творил хитро́; он часто цитировал и перефразировал других. «Нелепая загадка» перекликалась с «Сельским концертом» Джорджоне (ок. 1510), как заметили тогда некоторые интеллектуалы. Да и сам автор вовсе не походил на балагура. Он отличался убийственной серьезностью и подчеркнутой утонченностью, был знаковой фигурой богемного общества, остроумцем, кумиром художников и литераторов, среди которых особенно выделялся Малларме. Мане была присуща особая стать, это был «un gentleman», по выражению его друзей-французов. Он был образцом безупречности – даже дрался на дуэли. И еще не сказал последнее слово. Во время Салона 1865 года, по настоянию Бодлера, он представил на всеобщее обозрение «Олимпию». Безучастного взгляда хрупкой бледной куртизанки и появления наэлектризованного черного кота критики вынести не смогли: их возмущало все – от цвета кожи до следов лап {254}. «Дама червей после ванны» – так якобы сказал Курбе {255}. Другие высказывались похлеще. И вот уже Мане не знал, куда деваться. «Над вами насмехаются; досаждают своим зубоскальством; вас не ценят по достоинству… Думаете, вы первый оказались в таком положении? Превзошли в гениальности Шатобриана и Вагнера? ‹…› Чтобы вас не переполнила гордыня, скажу, что эти господа, каждый по-своему, служат примером для подражания… а вы всего лишь первый… в своем упадочном искусстве», – писал Бодлер, пытаясь таким образом его ободрить {256}.
Младшее поколение готово было поклоняться его следам. «Курбе – продолжение традиции, – сказал Ренуар, – Мане – новая эпоха в живописи» {257}. Дюранти, который однажды тоже скрестил шпаги с художником, заметил в 1870 году, что «на любой выставке всегда найдется картина, на двести шагов отстоящая от других; и это непременно Мане» {258}. Вспоминают, что Дега, угодить которому было весьма непросто, говорил Фантен-Латуру: «Да, действительно, получается у него недурно, жаль только, что это немного rive gauche» [35]; тот же Дега восхищался и завидовал присущей Мане уверенности в себе – об этом вспоминает Валери и добавляет: «В Мане есть определенная решительность, своего рода инстинкт стратега, направляющий действия живописца. В лучших своих холстах он достигает поэтичности, то есть высшей художественной выразительности через так называемый… резонанс исполнения. Но как можно рассуждать о живописи?» {259}