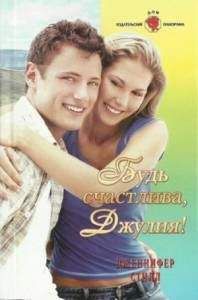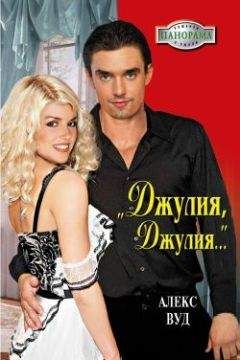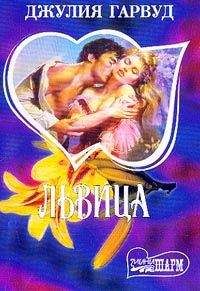Алексей Зверев - Лев Толстой
И этот путь для каждого — свой…
Так и не завершив «И свет во тьме светит», Лев Николаевич начинает другое драматургическое произведение, казалось бы, совершенно не связанное ни с «Властью тьмы», ни со «Светом…». Но это может лишь показаться. На самом деле, на каком-то глубинном уровне они связаны теснейшим образом так же, как связана последняя драма Толстого с его «Исповедью» — необходимостью ухода, неизбежностью разрыва со всем, что сковывает внутреннюю свободу человека, его порыв к Истине. И вновь решается эта тема на характере человека «слабого и доброго», «запутавшегося, павшего до презрения только от доброты». Сюжет Лев Николаевич находит в обстоятельствах поистине сенсационного уголовного дела, касающегося к тому же хорошо знакомых ему людей.
Начиная примерно с середины 1880-х годов в письмах Толстого различным адресатам нередко упоминается некто Федор Павлович Симон — ярый последователь его учения, молодой еще человек. После того как Симон гостил в Ясной Поляне, в дневниках Льва Николаевича появляется запись: «Какой чудный человек. Весь светится и горит. Тоже за него жутко, когда посмотришь с мирской точки зрения, а перенесешься в его душу, то так радостно и твердо».
Толстые постепенно сблизились с семьей Симон; известно, что мать Федора Павловича просила у Толстого совета по поводу судьбы дочери Екатерины, в семнадцать лет вышедшей замуж за человека, который из-за пьянства потерял место и стал опускаться все ниже и ниже. Гимер (фамилия мужа Екатерины) был человеком добрым и слабым, он ничего не мог с собой поделать, но и жена его не могла терпеть подобную жизнь. Екатерина Павловна ушла от мужа, но ни развестись с ним, ни выйти замуж за другого человека не могла.
Лев Николаевич посоветовал Екатерине Павловне смириться с положением вещей. «Мне кажется, — писал он матери, — что ей надо жить с тем мужем, с которым она живет, любя его, сколько она может, давая возможность ему поступить с ней добро. И оставить его только тогда, когда он ей прямо скажет, чтобы она уходила». Однако Гимер, опускаясь все ниже, ни на какое добро не был способен — он начал вымогать у жены деньги, шантажировать. И тогда Екатерина Павловна решилась на крайний шаг.
8 декабря 1897 года в Московской судебной палате началось слушание «Дела о дворянах Екатерине и Николае Гимер, по обвинению 13 и 1554 статей об Уголовных наказаниях»: «24 декабря 1895 года проживающая в Москве дворянка Екатерина Павловна Гимер получила по городской почте от мужа своего Николая Самуиловича Гимер, с которым она не жила до этого уже около 10 лет и с 1894 года вела в Московской духовной консистории дело о разводе, письмо с заявлением о том, что он, Гимер, доведенный крайностью, голодом и холодом до мысли о самоубийстве, решил эту мысль привести в исполнение и с этой целью утопиться в Москве-реке».
Спустя несколько дней в реке был найден труп, жена опознала в утопившемся мужа и, получив «вдовий вид» на жительство, обвенчалась с другим. А через несколько месяцев Гимер объявился в Петербурге. Он чистосердечно признался в полиции, что идею ложного самоубийства подсказала ему Екатерина Павловна, она же проводила его в Петербург, снабдив деньгами, и обещала высылать регулярно некоторые суммы и в дальнейшем.
Оба подсудимых были признаны виновными, подлежащими церковному покаянию, лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Лишь благодаря хлопотам известных судейских деятелей, А. Ф. Кони и Л. В. Владимирова, Гимеры были освобождены после недолгого тюремного заключения по «царской милости».
А спустя всего три недели после начала суда Толстой записал в дневнике: «Целый день складывалась драма-комедия: „Труп“».
Знаменательно определение жанра. Первоначально для Толстого коллизия определяется где-то на границе драматических переживаний персонажей и комедийной завязки сюжета: лжеутопленник становится причиной поступка, приведшего на скамью подсудимых и его, и жену. Но в этом определении совершенно отчетливо проглядывает абсурдистское начало, та линия трагического гротеска, что вошла в русскую драматургию XIX века с трилогией А. В. Сухово-Кобылина и получила развитие в драматургии XX века. Но с самых первых набросков выступает в пьесе одна из самых важных для Толстого-проповедника мысль: человека судят за то, что он не совершил самоубийства, не прервал Богом данную жизнь.
Важно и то, что Толстой вновь обращается (как и в «Плодах просвещения», и в драме «И свет во тьме светит») к своему кругу и видит, что этот круг, эта среда сами выталкивают человека, который, в отличие от других, живет, задумываясь и стремясь к правде. Так возникает отчетливо выраженная нравственная тема, болезненно связанная для Льва Николаевича с мотивом ухода, потому что, если в тех же «Плодах просвещения» возникало противопоставление двух миров, двух слоев общества, здесь это противопоставление обозначено совершенно иначе — цыгане, к которым тянется Протасов, являются для него воплощением «не свободы, а воли», исконной потребности человека, как понимал ее Толстой.
Б. Михайловский отмечал: «Живой труп» «резко выделяется тем, что в нем нет того религиозно-этического поучения, которое присутствует в „Воскресении“ и в пьесе „И свет во тьме светит“. Прозрение Протасова, его протест, его искания — все это осуществляется вне всякой связи с христианскими идеалами, с воздействием религии, которой совершенно чужд герой драмы».
Разумеется, внешней дидактики в «Живом трупе» нет, но — повторим! — сама коллизия, построенная на обвинении человека в том, что он не покончил с собой, разве не согрета глубоко внутренним религиозным чувством протеста против подобной мотивировки суда?
По верному наблюдению Е. И. Поляковой, в Протасове соединились все любимые персонажи Толстого, взыскующие правды и цели: Дмитрий Нехлюдов из «Утра помещика» и Дмитрий Нехлюдов из «Воскресения», Николенька Иртеньев, Валерьян из первой пьесы, Пьер Безухов, Николай и Константин Левины, отец Сергий… И эти персонажи соединились в восприятии Толстого с реальным лицом — любимым братом Сергеем Николаевичем, женившимся на цыганке Маше.
И немало собственных черт отдал Лев Николаевич Федору Протасову. Не просто собственных, но важных, принципиальных в характере: в частности, в одновременном страхе и притягательности смерти отчетливо сказываются воспоминания Толстого об «арзамасском ужасе» — не столько ощущение греха от прерываемой жизни, сколько почти животный страх уничтожения личности. И еще — обостренное чутье художника, точно ощущающего, где подлинное, настоящее, а где — ложное, фальшивое.