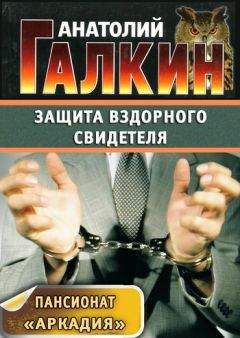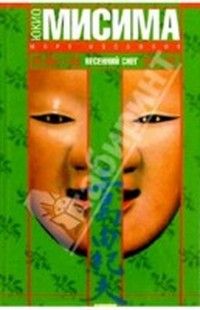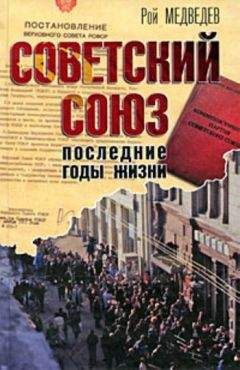Говард Фаст - Как я был красным
Честно говоря, мои корреспонденции в "Дейли уоркер" мало напоминали отчет о событии, оно и понятно. В Париже жили герои Сопротивления, люди, пережившие не малый, как в Америке, террор, но нацистскую оккупацию, мужчины и женщины, жизни своей не щадившие и видевшие, как мучают и убивают их товарищей. Фредерик Жолио-Кюри, например, во время оккупации занимался боеприпасами и собирал бомбы в подвалах Лувра. Как я уже сказал, он руководил работой конгресса, а сопредседателем был Луи Арагон, оказавшийся чудесным, неотразимо обаятельным человеком. Подобно другим французским коммунистам - участникам конгресса, Арагон участвовал в Сопротивлении. Однажды он пригласил меня к себе, и стоило нам выйти из зала заседаний на улицу, как на него обрушился град приветствий, люди выглядывали из окон, размахивали руками - словно большая дружная семья собралась. Скромная квартира, где Арагон жил со своей женой Эльзой Триоле, была набита книгами и напоминала скорее библиотеку, чем жилье.
Вместе с другими руководителями конгресса Арагон сидел в президиуме и, если только внимание его не привлекало чье-нибудь особенно яркое выступление, все время что-то писал.
- Зачем вам это надо, Луи? - спросил я его однажды. - Ведь для этого стенографистки существуют.
- О чем это вы?
- О том, что вы все время что-то записываете.
- А, так это я новый роман пишу. Когда же еще этим заниматься?
И я здесь, среди этих людей, - не политический отщепенец, как в Америке, но почитаемый и даже любимый гость. Конгресс предполагалось завершить митингом на огромном стадионе на окраине Парижа, меня попросили выступить от имени американской делегации.
Накануне меня пригласил на ужин Рено де Жувенель, выходец из аристрокатического рода, коммунист, живший в старинном фамильном особняке. Он угостил меня чудесной гусиной печенкой, за которой последовали антрекот и на десерт - вкуснейшие ватрушки. Рено предложил перевести мое выступление на французский, расставив правильные ударения. В общем, получилось так, словно я, пусть и неважно, но говорю по-французски. Помимо того, он сообщил, что поручение, данное мне Национальным комитетом нашей партии, поможет выполнить Лоран Казанова. На следующий день он представил меня ему. Это был высокий, статный привлекательный мужчина. Просьбу мою он выслушал совершенно бесстрастно; кстати, хорошо, что Жувенель был рядом, потому что Казанова либо не говорил, либо не хотел говорить по-английски.
Советскую делегацию на конгрессе возглавлял Александр Фадеев. Я сказал, что нужно защищенное от прослушивания помещение, и хорошо бы, чтобы Фадеев привел переводчика. С такого рода просьбой я обращался впервые в жизни, и меня немало удивило, с какой серьезностью отнеслись к ней Жувенель и Казанова. "Мы рассматриваем союз компартий как союз равных, - сказал мне впоследствии Жувенель, - и Казанове вы понравились". Не знаю уж, чем. Я, со своей стороны, всегда ощущал некоторую робость в присутствии мужчин и женщин, жизнью своей рисковавших во время фашистского нашествия. Казанова организовал встречу с Фадеевым на следующий же день, что меня несколько смутило, ибо как раз накануне русские дали роскошный прием в честь американской делегации. Он проходил в прекрасном ресторане, открытом белогвардейцами после 1917 года. Его убранство соперничало с убранством лучших парижских ресторанов. Меня удивило, как непринужденно общаются белые и красные. Было много выпивки, много тостов, некоторые из них произносил Фадеев. Это был высокий, очень красивый мужчина, с лицом, словно высеченным из камня, пронзительными голубыми глазами и копной седых волос.
На следующий день за мной зашел Жувенель и проводил в небольшое подвальное помещение в Плейель, которое, как меня заверили, не прослушивается. Жувенель ушел, и я остался с Фадеевым и переводчиком. Нельзя сказать, будто я нервничал, однако же и спокоен не был, смущение оставалось. Начал я с того, что мне поручено выдвинуть формальное обвинение против Центрального комитета компартии Советского Союза. Прозвучало это сильно, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я действительно сказал эти слова. Их перевели. Фадеев ненадолго задумался и кивком головы дал понять, что готов выслушать меня.
- Записывать будете? - спросил я.
- А вы?
- В данных обстоятельствах, разумеется, нет.
- В таком случае и я не буду. Кто-нибудь из французских товарищей знает, о чем идет речь?
- Нет. Дело сугубо конфиденциальное, я получил на сей счет строгие инструкции.
- Отлично. Слушаю вас, - голос Фадеева звучал совершенно ровно. Он сохранял полное хладнокровие.
Я сразу взял быка за рога:
- Наш Национальный комитет обвиняет советское руководство в антисемитизме и нарушении основ социалистической этики, что представляет собой серьезную угрозу мировому коммунистическому движению. - Я выпалил это одним духом и, только закончив, ощутил некоторое волнение и даже страх. Не спрашивая ни у кого разрешения, я облек обвинительное послание в более или менее приличную форму, придал ему хотя бы легкий оттенок уважительности; однако же, хоть и приходилось мне слышать, что в принципе компартии рассматривают друг друга как равноправных партнеров, как это выглядит на деле, я не знал. Фадеев же, о чем мне сказали заранее, является депутатом Верховного Совета СССР.
Он снова задумался, слегка прикрыл глаза, принялся что-то мурлыкать под нос - раздражающая привычка - и конце концов сказал:
- В Советском Союзе нет антисемитизма.
- И это все?
Переводчик перевел мой вопрос.
- В Советском Союзе нет антисемитизма.
Вспоминая эту историю, я поражаюсь тому, как разозлили меня тогда эти слова. Накануне отъезда из Нью-Йорка мне представили доказательства обвинения. Из них следовало, что восемь крупных военачальников-евреев были арестованы, как выяснилось, по ложным обвинениям. Газеты на идиш подвергаются гонениям. Было и что-то еще, тогда я все заучил наизусть, хотя сейчас подробности забылись. Но, быть может, еще больше меня поражает то, что, услышав ответ Фадеева, я не отступил. К Советскому Союзу я относился с огромным уважением. В моих, как и тысяч других американцев, глазах это был бастион социализма. Я продолжил:
- Как же так? Весьма ответственные товарищи поручают мне выдвинуть против вашего руководства серьезные обвинения - особенно серьезные на фоне истребления шести миллионов евреев в нацистских концлагерях, - а вы просто заявляете, что в СССР нет антисемитизма? Что же, и мне прикажете вернуться домой и просто сказать: в СССР нет антисемитизма? Но ведь у нас есть доказательства обратного. - Я перечислил их. - Быть может, и не все из этого правда, но почему вы отказываетесь говорить об этом?