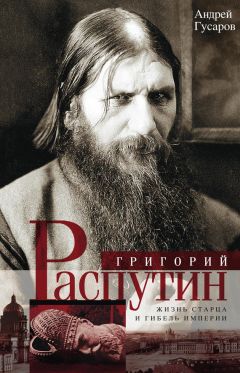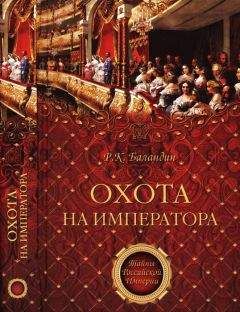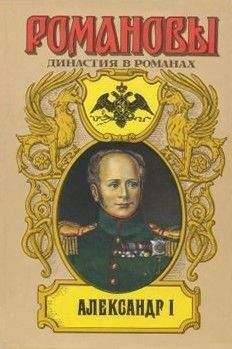Анатоль Абрагам - Время вспять
Запомнилась еще одна история той поры. Мы на дворе чистили картошку. Кто-то из моих товарищей затянул песенку весьма сомнительного содержания, остальные поддержали. Проходящему мимо унтеру показалось, что пели Интернационал. (Петь его во французских казармах никогда не поощрялось, а в военное время, да еще в 1939 году, после советско-германского договора вообще было недопустимо.) Нас вызвали к капитану, где все побожились, что и не думали петь Интернационал. Тогда капитан обратился к одному из нас, так сказать, профессионально правдивому, к семинаристу, и спросил у него, как называлась песня, которую пели его товарищи. Семинарист побледнел. В конце концов все разъяснилось, и дальше капитана дело не пошло. Пришло Рождество, а с ним и рождественский отпуск. А гимнастерок все еще не было. Интендантство разыскало где-то партию странных темно-синих курток с красной каймой, в которых нас и разослали по домам. (Некоторые уверяли своих доверчивых родителей, что это была парадная форма десантников.)
После отпуска, в январе 1940 года, меня отправили в городок Немур (Nemours) в восьмидесяти километрах от Парижа в, так называемую, специальную группу (СГ) в качестве кандидата в УОЗ (ученик-офицер запаса, т. е. кандидат в офицеры запаса). После трехмесячной подготовки в СГ был экзамен на поступление в Артиллерийское училище в Фонтенбло в качестве УОЗ. Там проходили вторую трехмесячную подготовку, затем был выпускной экзамен, по которому все УОЗ распределялись по фронтовым частям, выдержавшие — юнкерами, провалившиеся — сержантами. Так подошел конец июня 1940 года. Во Франции все считали, что время на нашей стороне. Плакаты призывали сдавать металлический лом, чтобы „ковать из него сталь победителей“, и утверждали с железной логикой: „Мы победим, потому что мы сильнее“. Никто никуда не торопился, кроме немцев, но этого мы не знали. Уход в СГ, куда брали только добровольцев с образованием не ниже среднего, представлял моральную проблему: все УОЗ шли в полевую артиллерию, которая располагалась ближе к фронту и, значит, была опаснее. Из наших четырех интеллигентов семинарист и я бесстрашно записались в полевую, счетовод и коммивояжер предпочли остаться. Народ в СГ сильно отличался от казармы в Шатору образованием (все имели, по крайней мере, Бак), а еще больше настроением. Большинство, в том числе и я, серьезно хотели научиться воевать. Мы научились разбирать, чистить и снова собирать лебелев-скую винтовку. Некоторые (не я) могли делать это с закрытыми глазами. На стрельбу в цель на каждого отпустили по две дюжины патронов. Нам показали пулемет и объяснили, как с ним обращаться. Наконец, мы увидели „семидесятипятку“, или просто „75“, красу и гордость французской полевой артиллерии, — пушку калибра 75 миллиметров. В 1914 году это была, бесспорно, лучшая в мире полевая пушка, но на дворе стоял 1940 год. Мы изучали ее очень подробно и узнали о ней почти все, что можно было узнать: число смазочных отверстий (32), вес казенной части (26 килограммов) и число ее винтовых нарезов (я забыл сколько). На каверзный вопрос, куда попадает снаряд, вылетая из дула, мы научились отвечать: „В область внешней баллистики“.Я сказал, что мы знали почти все про „75“. На вопрос: „Каков состав жидкости гидравлического тормоза полевого орудия калибра 75 миллиметров?“ — требовалось ответить: „Состав жидкости гидравлического тормоза полевого орудия калибра 75 миллиметров — военная тайна“. Но, хотя это и было военной тайной, все знали, что эта жидкость замерзает между -15 и -2 C, что исключало употребление этого орудия в холодном климате. Эта проблема возникла во время советско-финской войны, которая была тогда в полном разгаре. Нашему главному штабу хотелось подсобить Финляндии. Было решено послать финнам не бесполезное орудие „75“, а его предшественника — полевое орудие де Банж (de Bange). Это было прекрасное средневековое оружие; проблема замерзания жидкости гидравлического тормоза решалась изящно и просто — отсутствием гидравлического тормоза, т. е. отдачей орудия без возврата на прежнюю позицию (куда его лихорадочно вкатывала обратно прислуга). Ритм огня, четыре в минуту для „75“, падал у орудия де Банж до одного в три минуты. Я знаю, о чем говорю — в Фонтенбло я сам стрелял из этого орудия. Счастливчики финны! Был курс ИАО (инструкция по артиллерийскому огню), на котором мы учились подсчитывать разные параметры ведения огня, учитывая координаты мишени, скорость ветра и тип боеприпасов — снаряда и взрывателя. Мы научились также делать топографические съемки. Все это было отнюдь не так плохо. Плохими и, пожалуй, возмутительными были жизненные условия. Нас поместили в сыром, холодном и темном подвале заброшенной пивоварни. Начало зимы было очень холодным, и почти все хворали инфлюэнцей или ангиной. С температурой ниже 38,5 С в санчасть не принимали. Спали на соломенных матрацах прямо на полу. Условия для умыванья были ужасные, и только самые закаленные и самоотверженные мылись ниже шеи. Единственное преимущество холода заключалось в том, что не было тяжелого запаха, свойственного казармам. Однажды у меня произошел инцидент со старшим сержантом. За нечищенные башмаки он обозвал меня „грязной свиньей“, ставя в пример свои собственные, начищенные до блеска. Возмущенный, я бросил ему вызов разуться, чтобы сравнить и чистоту ног (свои я как раз мыл в то утро). Он вызова не принял и после этого ко мне больше не приставал. Мне могли бы сказать: „Чего вы жалуетесь? Ведь была же война, и вы должны были себя считать счастливчиками, что сидели в тылу.“ Однако многие из нас совсем не рады были сидеть в тылу, и, кроме того, тыл или не тыл, держать людей в свинских условиях из-за халатности и бездарности отдельных людей было непростительно. Однажды в остром припадке лени и уныния я решил избавиться от скучной практики хоть на день и записался на медицинский осмотр, где пожаловался на боли в груди. Военный врач отнесся к этому очень серьезно, тщательно выслушав сердце, вынес диагноз „порок митрального клапана“ и предписал мне явиться на будущей неделе в городской госпиталь для более тщательного осмотра. Я не сомневался, что там мне предпишут увольнение. „Нечего радоваться“, — прибавил он, — „с вашим пороком жить вам недолго, а пока не стоит прерывать практику“. Как всякий симулянт, я мечтал надуть врача, но на этот раз, как говорят у нас, „невеста была слишком хороша“. Я вернулся в казарму расстроенный. Как назло, на следующий день у нас кто-то заболел скарлатиной, и объявили карантин. Обучение продолжалось, а вот в город (и, значит, в госпиталь) не пускали, и в течение трех недель карантина я грустно „нянчил“ свой митральный порок. (Карантин — перевод „Quarantaine“, т. е. „сорок дней“, так что „три недели карантина“ это оксюморон (oxymoron). Да, да, есть такое слово, оно означает внутреннее противоречие, как „горячий лед“ или „культурный старший сержант“.) Наконец, стало возможным явиться в госпиталь, где я рассказал врачу про свой порок. Вместо того чтобы осмотреть меня, он спросил фамилию нашего врача и расхохотался: „Он помешан на митральном пороке и присылает нам двоих-троих с этим диагнозом каждую неделю“. Бог наказал меня за симуляцию, но милостиво. Отношения в нашей СГ были дружеские, и, несмотря на интерес, который я проявил к „глубинной и нутряной“ Франции, общение с товарищами, в большинстве студентами „отсрочника-ми“, как и я, было более легким. Помню одного из них, которого за едкий юмор и густые усы прозвали Грушо (в честь Грушо Маркса — американского комика). Он всегда поднимался последним, но на перекличку являлся первым, так как спал одетым. Встав с постели, он надевал пилотку, закуривал сигарету и был готов приветствовать новый день. Поводом к этому был все тот же холод. После трехмесячных занятий в СГ был выпускной экзамен. Из 250 кандидатов я вышел первым, доказывая тем, что кроме штатских талантов, которые уже года четыре не имели никакого признания, у меня были и военные способности. До сих пор моя скромная военная карьера протекала согласно плану. Оставался последний этап до фронта — Фонтенбло. Но там произошло неожиданное. После Немура первым в Фонтенбло было впечатление замечательного комфорта. Койки с чистыми простынями, душ, парикмахер, приличная пища. Зато дисциплина была гораздо строже. Никакой небрежности во внешнем облике не терпели. Здесь я не смог бы и подумать о том, чтобы вызвать старшего сержанта на соревнование в чистоте ног. Почти все инструкторы были кадровыми офицерами. Пренебрегая обмотками (даже эластичными), о которых я мечтал в Шатору, они носили сапоги и шпоры и ходили с „манежным хлыстиком“ под мышкой. По всему училищу струился конский аромат. Ученики имели выбор между „конной“ и „автомобильной“ артиллерией, но все воспитательные строгости военной выправки были, конечно, на стороне конной. Как и обмотки, в этом отношении лошадь была бесценна. Я выбрал автомобильную артиллерию потому, что мое отношение к лошади лучше всего можно определить как уклончивое. Помню, как осенью 1934 года, после того как я выдержал первые четыре зачета на лиценциат, я получил через товарища предложение на место домашнего учителя в … Чили. Мой наниматель, француз, хозяин громадной асиенды (поместья), искал студента для воспитания своих детей — сына и дочери, двенадцати и четырнадцати лет. Я мог бы соблазниться, если бы он не прибавил: „Вам понравится — В Фонтенбло я открыл два новых упражнения: „тир Реми“ и стрельба на полигоне. Тир Реми (имя его изобретателя) был великолепной игрушкой. Представьте себе миниатюрный пейзаж с масштабом в одну тысячную, с дорогами, деревнями, колокольнями, речками, которые вы наблюдаете в бинокль. На этом пейзаже вам указывают объект и дают его координаты. Вы подсчитываете в уме и объявляете, как можно скорее, данные для стрельбы. На пейзаже появляется, более или менее далеко от объекта, крошечный кусочек ваты, симулирующий взрыв скомандованного вами выстрела. Вы подсчитываете поправки к предыдущей команде и так далее до попадания. Оценка зависит от числа выстрелов и длительности стрельбы. Я был не из худших. Теперь, когда такие упражнения делаются на компьютере, это выглядит старомодно, но в 1940 году это было хорошей практикой. В связи со стрельбой в тире Реми я запомнил случай, который показал мне, что наш полковник был не глуп. Однажды он нагрянул во время упражнения. Инструктор, конечно, вызвал нашего чемпиона, но вместо обычных двух выстрелов тому понадобилось пять или шесть, что свело среднюю его оценку с 18 к 14. Раздосадованный своей неудачей, он „ляпнул“, что стрелял плохо потому, что был смущен неожиданным появлением полковника. „Благодарю за искренность, но прошу инструктора записать вам нуль. Если офицер смущается присутствием начальника во время потешной стрельбы, как же он будет реагировать, когда будет стрелять в неприятеля и еще к тому же над огнем неприятеля.“ Тот же полковник помог мне осмыслить разницу между способностями к военной службе и качествами бойца. На полигоне мы стреляли по-настоящему (хотя без неприятеля) из „75“ (и пару раз из орудия де Банжа). И тут я был неплох. Но чтобы стать хорошим артиллеристом, мне не хватало одного военного и одного боевого качества. Моей главной военной слабостью была выправка. Как бы я ни старался (хотя, правду сказать, я не так уж и старался), мои башмаки никогда не были вычищены до требуемого блеска, гимнастерка не была застегнута как следует, пилотка сидела на голове не под тем углом как следует, и даже молодцеватое отдавание чести достаточно не всегда удавалось мне. В СГ, где большинство инструкторов были из запаса и где по объективным причинам невозможно было выглядеть прилично, на это мало обращали внимания. Мне было наплевать, окончу ли я училище среди первых (я здорово изменился), я лишь хотел поскорее начать стрелять в немцев. Была у меня и боевая слабость, про которую я знал, но которая оказалась особенно серьезной для артиллерийского офицера: я был совершенно лишен чувства ориентации. В полевой практике требовалось постоянно быть способным ответить на вопрос: „Где неприятель? Где север?“ Я быстро терял север, а затем и неприятеля. Прибыв из СГ в Фонтенбло первым, я постепенно растерял все свои преимущества. Несмотря на все эти слабости, мои отношения с инструкторами были неплохими. Они были бы еще лучше, если бы я был уверен, что они интересуются ходом войны. Но то, как война развивалась (а начинала она развиваться в высшей степени угрожающе), их мало беспокоило. В один прекрасный день, в конце мая или в начале июня (немцы вступили в Париж 10 июня 1940 года, а это было дней за десять до того), у нас были назначены на утро практика по отда. ванию чести саблей (да, да!), а на послеобеденное время экзамен по топографии. День был на самом деле прекрасный — чудный, весенний день. Не успели взяться за сабли, как нам объявили, что программа дня будет проведена не в Фонтенбло, а во Втором французском артиллерийском училище в Пуатье (Poitiers), примерно на 400 километров южнее Фонтенбло, и что транспорт для переброски в Пуатье будет велосипедным. Нас тотчас послали получать велосипеды и пайки. Мы отправились в Пуатье в безукоризненном порядке, двигаясь попарно по дорогам Франции. Погода стояла чудесная, и, если бы я не был так обеспокоен исходом войны, я насладился бы нашей трехдневной прогулкой. Мы видели в небе несколько немецких самолетов, но, очевидно, „цвет французской артиллерии“ их мало интересовал. В Пуатье мы провели один день, но с саблями и топографией опять ничего не вышло. Мы двинулись дальше, по направлению к провинции Лимузена (Limousin), и нашли „тихую пристань“ в местечке Сен-Сир (Saint-Cyr). По иронии судьбы то же имя носит знаменитое французское военное училище. В Сен-Сире мы застряли на три месяца, ожидая решений высшего начальства. Офицеры были гораздо более озабочены своими будущими назначениями, чем исходом войны. Поведение некоторых из них становилось весьма непривлекательным. Капитан объяснил, что мы были разбиты потому, что отдали все противотанковые пушки республиканским войскам в Испании. Я хотел возразить, но, подумав, промолчал. И не пожалел об этом. Один из нас сказал, что слышал призыв какого-то генерала де Гол-ля переправляться в Англию и продолжать борьбу, — за это его посадили под строгий арест. После перемирия с немцами, подписанного маршалом Петеном (Pйtain), большинство УОЗ продолжали сохранять иллюзию занятий, еще мечтая на руинах нашей страны о своих юнкерских нашивках. Вид этих идиотов и их инструкторов мне был невыносим. К счастью, я спас во время военного крушения своего верного „Куранта и Гильберта“ и утешался им. В школе Сен-Сира один из классов был превращен в гауптвахту, и там был электрический свет. Попасть туда мне было совсем нетрудно (за какой-нибудь проступок), чтобы спокойно читать по вечерам. Конечно, такого рода поведение имело свои последствия. И когда занятия подошли к концу, мне, считавшемуся одним из первых при поступлении в знаменитое офицерское училище Фонтенбло, достался чин не юнкера, не сержанта, а старшего капрала, который, как всем известно, даже не унтер-офицерский чин, а причислен к рядовым. Sic transit gloria mundi, как говорят римляне. У меня были более серьезные заботы. В конце августа, когда я был демобилизован, мне сообщили, что въезд в Париж мне запрещен. Да я и не собирался лезть в ловушку, где сидели немцы. Напомню читателю, что после перемирия Франция была разделена на две зоны: северная (или оккупированная), где немцы правили сами, и южная (так называемая свободная), где они правили через своих французских лакеев и где для таких, как я, было не так опасно. Я решил поехать на первое время в курортный город Канны (Cannes) на Средиземном море, где уже находились моя сестра и ее муж, тоже только что демобилизованный. Мои родители остались дома в Круаси, в оккупированной зоне. Я доехал до Канн не быстро; как старший капрал, я ездил бесплатно только на пассажирских или товарных поездах, в скорые — меня не пускали. Но двести километров я проехал роскошно: развалившись с двумя товарищами в шикарной машине, поставленной на платформу товарного вагона. Начинался новый этап.