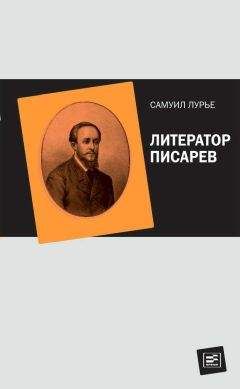Алексей Новиков - Впереди идущие
– Кто будет с этим спорить, Николай Васильевич? Воистину необъятное творение – «Мертвые души». Читаешь и ловишь себя на мысли: все вами же ранее написанное кажется теперь бледным.
Гоголь слушал не перебивая, будто забыл о только что сделанном предупреждении.
– Надобно кровно породниться с поэмой, прежде чем решиться о ней говорить. Не боюсь признаться, однако: вихрем поднимаются мысли. – Белинский с трудом сдерживал свой порыв. – Не буду скрывать, Николай Васильевич, я шел к вам еще и для того, чтобы разрешить неотступное мое сомнение…
Гоголь пристально на него посмотрел, сказал с беспокойством:
– Слушаю вас…
– Неужели же, – начал Белинский, – в сем самом Чичикове, как сказано в «Мертвых душах», в холодном его существовании, заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека перед мудростью небес? Да какие небеса, Николай Васильевич, могут возродить в Чичикове человека?
– Две большие части поэмы впереди, – уклончиво отвечал Гоголь. Вопрос Белинского предвосхитил его мысли. – Почему ж не спросите вы и о Плюшкине, например, или о многих других? Открою вам за тайну: прежде всего самому автору нужно заняться воспитанием душевным. Только тогда возродятся его герои. Но все это – далеко впереди, так далеко, что сам не вижу всего пути.
Гоголь говорил тихим голосом, прерывая речь кратким молчанием. Казалось, он слышит то, чего не дано слышать собеседнику. Участвуя в разговоре, уходил в себя: словно бы ничтожны стали все речи перед величием истины, ему открывшейся.
– Поверьте мне, – снова начал Гоголь, – тайна существования не только Чичикова, но даже Плюшкина сама собой разрешится, когда придет время. Полное значение лирических намеков в поэме не раньше раскроется всем, как выйдет последняя часть. До тех пор опрометчиво будет всякое слово, как тщетны и попытки наши примирить мечтания с существующими настроениями. Все мы должны для этого нравственно возродиться.
– Не вернее ли было бы для начала, Николай Васильевич, истребить те проклятые неустройства? Иначе каждый Чичиков всегда останется Чичиковым, разве только станет больше и удачнее приобретать. Жизнь свидетельствует о том с неумолимой очевидностью.
Гоголь молчал, прикрыв глаза. В молчании чувствовалась и холодность, и отчуждение.
Со смутным чувством Белинский перевел разговор:
– Странная судьба у нашей словесности, Николай Васильевич! Она украшает вашими произведениями страницы «Современника» и «Москвитянина» и лишает их «Отечественные записки».
– Помнится, вы уже писали мне о том в Москву. – Гоголь нахмурился. Не станет же он объяснять, как вырвал у него «Рим» немилосердный Погодин, как послал он «Портрет» Плетневу, отчаявшись получить от него хотя бы одно слово о судьбе «Мертвых душ». Как же можно упрекать человека, не зная всех обстоятельств?
– Не ставлю слишком высоко «Отечественные записки», – продолжал Белинский, – но не буду и умалять их. Скажу напрямки, Николаи Васильевич, это единственный журнал, на страницах которого звучит смелое слово.
– Только крайность могла заставить меня участвовать в журналах, – с неохотой отвечал Гоголь. – Ныне же скорее отрублю себе руку, чем поддамся даже крайности… Любопытно знать, однако, как судите вы о «Риме»? Я дорожу каждым мнением, тем более вашим. – Гоголь снова заметно оживился.
– Тогда не поставьте мне в упрек мои сомнения. Не могу я принять многое из того, что сказано в повести о Франции и Париже. А вам ли, зоркому путешественнику, не знать тамошней жизни!
Гоголь поднял глаза, но ничего не сказал.
– Так неужели же, – продолжал Белинский, – во Франции можно увидеть только намеки на мысль и отсутствие самих мыслей, полустрасти – вместо страстей, страшную пустоту в сердцах и, наконец, отсутствие, как сказано у вас, величественно-степенной идеи? Я помню каждую строку и знаю, что ничего не исказил. Неужто же Францию со всем величием идей, рожденных в бурях революции, должно упрекать в том, что идеи эти отличаются стремительным развитием на благо человечеству? Можно ли, – воскликнул Белинский с горечью, – великую страну с великим прошлым уподобить, как написано в «Риме», легкому водевилю или блестящей виньетке?!
– Напомню вам, – Гоголь, вопреки обыкновению, не уклонился от спора, – что к этому выводу приходит в «Риме» итальянский князь после знакомства с Парижем. Автор повести за него не отвечает.
– Полноте, Николай Васильевич! Ваше сочувствие этим мыслям не ускользнет от читателя. Иначе автор нашел бы способ опровергнуть своего героя. Не вы ли, знакомя нас с героями «Мертвых душ», не боитесь произнести над ними приговор?
– Стало быть, был я прельщен гордыней, – отвечал Гоголь с неожиданным воодушевлением. – Есть только один судья небесный для всех и каждого из нас, – Гоголь поднял руку, словно призывая в свидетели небесного судью.
И снова взглянул на него Белинский со смутной тревогой. Давно ли, в Москве, Гоголь говорил ему о своей непокорной лире? Хотел было спросить Виссарион Григорьевич: неужто только и остается русским людям, что ждать сложа руки, пока судья небесный поразит всех Чичиковых? Гоголь словно угадал его мысли.
– Давеча, – сказал он, – вы, Виссарион Григорьевич, спрашивали меня о Чичикове, и я ответил вам, что прежде всего мне самому нужно заняться моим душевным воспитанием. До тех пор, пока не подвигнусь сам, многое будет несовершенно, односторонне и даже ложно в моих созданиях.
С душевной мукой вырвалось у Гоголя неожиданное признание. Глубокое страдание отразилось на его лице. Будто изнемог человек, проживший долгие годы в том омуте, где копошатся и Чичиковы, и ноздревы, и маниловы, и собакевичи. Потом, к удивлению Белинского, вдруг сказал спокойно и деловито:
– Что еще скажете о «Риме»?
– Многое, Николай Васильевич! Возвращается князь из Парижа в родную Италию. Читаешь эти страницы, и кажется – сам ходишь по Риму. Все дышит полнотой действительности: и старые, запущенные дворцы, и рыжий капуцин, и все эти синьоры, переговаривающиеся утром через улицу из своих окон. Все кипит жизнью!
– О, эти итальянские синьоры и синьориты! – откликнулся, улыбаясь, Гоголь. – Когда я писал «Рим», они без умолку и без стеснения тараторили мне в уши. Но не в том суть повести, пусть и незаконченной.
– А в чем же? – Белинский опять насторожился. – Не в том ли, Николай Васильевич, что, по вашим же словам, европейское просвещение еще не коснулось итальянского народа и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования? Само духовное правительство в Риме вы справедливо называете странным призраком минувших времен и тут же говорите, что это духовное правление осталось для того, чтобы до времени в тишине таилась гордая народность итальянцев. Да как же сочетать одно с другим? Стало быть, монах, сидящий на папском престоле, и вся армия священнослужителей призваны сохранить народность? Ведь после этого надобно признать, что и наше русское самовластье – тоже ведь наследие времен минувших – и все его прислужники в чиновничьих вицмундирах или помещичьих архалуках также надобны для сохранения нашей народности? Но сами же вы показали, Николай Васильевич, губительную силу мертвых душ для судеб народных!