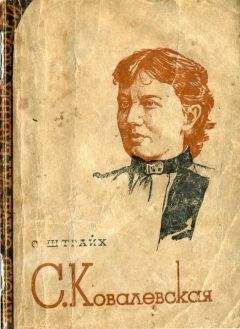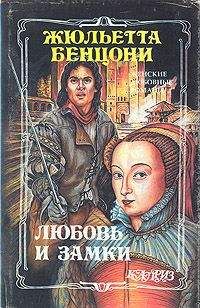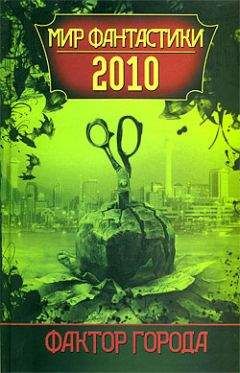Соломон Штрайх - Н. И. Пирогов
Наконец «черниговцы» подбили Лоссиевского на выходку, возможную только в эпоху, когда сам царь мог объявить П. Я. Чаадаева сумасшедшим за статью, признанную оскорбительною для национального шовинизма. «Прошло уже два года моей госпитальной службы, — пишет Пирогов, — как вдруг однажды Лоссиевский вызывает моего ассистента и ординатора госпиталя Неммерта и спрашивает его: не заметил ли он чего особенного в моем поведении. Неммерт говорит, что нет. «А почему же он прописывает в таких больших приемах наркотические средства?» «Я не знаю, — отвечает Неммерт. — Спросите сами у профессора».
Тогда Лоссиевский призывает Неммерта в госпитальную контору и приказывает ему как подчиненному расписаться в принятии запечатанного пакета с надписью «секретно». Неммерт берет. В секретной бумаге значилось: «Заметив в поведении г. Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Гл. д-р Лоссиевский».
Получив бумагу, Неммерт принес ее Пирогову, и Николай Иванович с этой бумагой немедленно отправился к попечителю академии, дежурному генералу Веймарну, заявив ему, что подает в отставку, если всему этому вопиющему делу не будет дано хода.
На другой день утром Николая Ивановича пригласили в контору госпиталя, и там разыгралась, по его словам, «истинно позорная сцена». Лоссиевский, в парадной форме, со слезами на глазах, дрожащим голосом, подняв руки к небу, просил у Пирогова извинения за свою необдуманность и дерзость, уверяя, что впредь он никогда не даст ему ни малейшего повода к неудовольствию.
К такого рода каверзам присоединились страдания Пирогова от болезней, одолевавших его во время работы в академия. Вызывались они антисанитарными условиями и тяжелой обстановкой, в которых он находился. Обычным местом его занятий были старые бани при госпитале; в них, за неимением других помещений, он производил вскрытия трупов, иногда до 20 в день в летние жары; а весною, во время ледохода, переезжал ежедневно по два раза на Выборгскую сторону, пробиваясь иногда часа по два между льдинами.
Современник так описывает лабораторию анатомического института, т. е. те самые бани, в которых Пирогов производил вскрытия: «Представьте себе комнату в полуподвальном этаже в зимние вечерние часы. Уже входя в переднюю, зажимаешь нос от запаха, который распространяется от ящика с хранящимися в нем трупами без какой-либо дезинфекции. В самой комнате, у окна, стоят выкрашенные в красный цвет столы с покатыми досками; возле столов кадки со всякой мерзостью, — комната отапливается железными печками, вокруг которых кладут трупы для оттаяния, и освещается масляными лампами, которые горят так тускло, что все занимающиеся там держат в руках сальные свечи. Студенты, одетые в черные клеенчатые фартуки, копошатся возле трупов, все окутано серыми облаками табачного дыма. Это прямо какая-то пещера из Дантова ада».
Н.И. Пирогов (1845 г.) Снимок с современного рисунка сепией, поднесенного Пирогову его слушателями в Петербурге; хранится в музее Пирогова в Ленинграде. Фото Л.Я. Леонидова
Все это вредило здоровью Николая Ивановича и отражалось на его отношениях к жене.
Очень скоро после свадьбы Екатерина Дмитриевна позавидовала Катеньке Мойер, отказавшейся от брака с знаменитым профессором. Если Пирогов и не делал над женой медицинских экспериментов, которых боялась дочь профессора Мойера, то Екатерине Дмитриевне все же нелегко было выполнять семейную программу, изложенную ей в свое время ее женихом. Она совершенно не умела водворять спокойствие в смятенной душе Николая Ивановича, издерганного тяжелой обстановкой трудового дня. Николай Иванович обвинял жену в безучастном отношении к подвохам и козням черниговцев, а когда она плакала от этих незаслуженных упреков, Пирогов рассерженный уходил в свои анатомические бани, где оставался до поздней ночи.
Много дней и вечеров проводила Екатерина Дмитриевна одна, со своими думами и слезами. Родные посещали ее редко. Приятельниц завести она не могла — обстановка дома была у Пироговых суровая, аскетическая. Иногда Николай Иванович устраивал вечера, на которые приглашал своих друзей-ученых. Это были главным образом солидные, почтенные, честные немцы, преклонявшиеся перед гениальностью Пирогова, дымившие сигарами, говорившие исключительно об анатомии, хирургии и других отраслях медицины. Допускавшиеся на эти вечера молодые ассистенты и прозектора кафедры хирургии не позволяли себе вмешиваться в беседы учителей и старших коллег, а говорить на какие-нибудь посторонние темы и подавно не смели.
Только дружбу жены с молодой переводчицей Ахматовой переносил Пирогов без раздражения и укоризненных поучений. Ахматова была рекомендована Пирогову его другом редактором «Библиотеки для чтения» Сенковским, писавшим под псевдонимом «Барон Брамбеус». Николай Иванович по просьбе Сенковского лечил Ахматову от болезни глаз и, убедившись, что она чужда суетностям моды, не любит балов и театров, занимается серьезным литературным трудом, сам просил ее бывать у них в доме и развлекать его жену.
Близко наблюдавшая семейную жизнь Пироговых, Ахматова говорит в своих воспоминаниях о «несколько деспотическом взгляде» Николая Ивановича на женщин. Про Екатерину Дмитриевну Пирогову она пишет: «Она была олицетворением кротости и очень хороша собой. Николай Иванович впоследствии переменил свой взгляд на женщин, но в то время, когда я познакомилась с ним и с его первою женою, взгляды его на обязанности жены были несколько оригинальны. Он желал, чтобы жена его не бывала на балах и даже в театре, чтение романов и короткое знакомство с кем бы то ни было он тоже запрещал. У Екатерины Дмитриевны характер был очень уступчивый и кроткий, она не тяготилась такою жизнью, но очень была рада, когда получила разрешение читать для меня вслух французские и русские романы, так как мне самой чтение было запрещено. Я проводила с Екатериною Дмитриевною целые дни всю следующую зиму и никогда никого из посторонних не видала у нее. Она читала, я слушала, но в те дни, когда меня не было, она оставалась совсем одна. Николай Иванович, конечно, по целым дням не бывал дома».
По-видимому и Пирогов не без причины останавливался несколько раз в письмах ко второй своей невесте А. А. Бистром на отношениях к первой жене. Он горячо убеждает ее не верить сплетням про него и не составлять себе «предвзятого мнения» о его «наклонности к домашнему деспотизму». Но в одном из писем, однако, сам признается: «Я был эгоистом и не много прилагал труда узнать ее, полагая, что я ее и так хорошо знаю, что душа женщины гораздо проще, мотивы ее известнее».