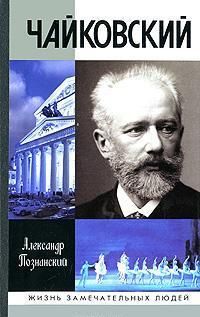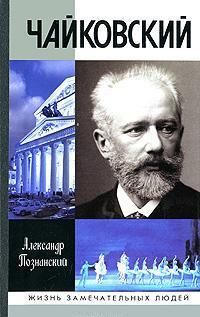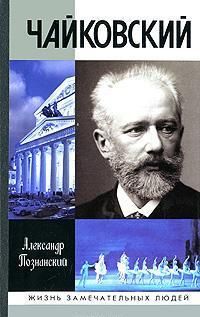Александр Познанский - Чайковский
Распространенное мнение о том, что в России издавна существовала традиция приравнивания гомосексуальности к уголовному преступлению, неверно.
Если на Западе, начиная с XII века, виновных в «мужеложстве» инквизиция сжигала на кострах, то «Домострой» в этом отношении, как и в отношении любого другого греха, предполагает лишь духовное покаяние. Иностранцев, посещавших Московскую Русь в XV–XVII веках, поражало и возмущало широкое и безнаказанное распространение «содомии» среди всех слоев населения — от крестьянства до царствующих персон. Саймон Карлинский, одним из первых обративший внимание на этот феномен, приводит несколько свидетельств, из которых, быть может, два наиболее поучительны. Одно — стихотворение английского поэта и дипломата Джорджа Тэрбервилла, посетившего Московию в разгар террора Ивана Грозного (1568), о сексуальных привычках простого русского земледельца:
Хоть есть у мужика достойная супруга,
Он ей предпочитает мужеложца-друга.
Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.
Вот в грех какой его ввергает хмель.
(Пер. С. Карлинского)
Столетие спустя известный хорватский деятель Юрий Крижанич негодовал, что «здесь, в России, таким отвратительным преступлением просто шутят, и ничего не бывает чаще, чем публично в шутливых разговорах один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху; недостает только, чтобы при всем народе совершали это преступление». Сохранилось множество подобных свидетельств. Иными словами, лица, склонные к подобному поведению при патриархальном строе, особенно не выделялись на фоне остального общества. Ни для кого уже не секрет, что наиболее яркие и деспотические из русских государей — Иван Грозный и Петр Великий — также практиковали «мужеложство». «Противоестественный блуд» как преступление вообще не упоминается ни в одном из юридических документов Киевской и Московской Руси — начиная с «Русской правды» Ярослава Мудрого и заканчивая «Уложением царя Алексея Михайловича» (1649).
Впервые эта тема как вид преступления возникла в «Кратком артикуле» князя Меншикова (1706), где за «ненатуральное прелюбодеяние со скотиной», «мужа с мужем» и за «блуд с ребятами» полагалось сожжение на костре, притом что наказание было взято из шведского воинского статута. Уже через десять лет Петр I резко смягчил кару до простого телесного наказания, и лишь в случае применения насилия — вечной ссылки.
Заметим, что воинские уставы Петра касались только лиц, отбывавших службу в армии, и на остальное население не распространялись. Криминализация сексуальных отношений между мужчинами как одного из «половых», или «плотских», преступлений юридически состоялась лишь в 1832 году, при Николае I, то есть всего за восемь лет до рождения Чайковского. Как видим, о «давней» традиции не может быть и речи!
Но закон этот редко применялся в отношении правящего класса. В России тех лет репрессия гомосексуального поведения носила характер «случайный и неправомерный», иначе говоря, выборочный: не преследовались лица, сильные своим статусом, влиянием и связями. Именно такое положение вещей характерно для всего русского XIX века: власть имущие, подверженные этим склонностям, не без основания ощущали себя в полной безопасности. Минимума осторожности было в таких случаях достаточно для предотвращения даже светских скандалов. В редчайших ситуациях, когда дело все же доходило до суда из-за неблагоразумия участников, власти прилагали все усилия, чтобы успешно замять происшедшее и предотвратить какие бы то ни было серьезные осложнения.
На протяжении столетий у правящего класса, особенно во времена засилья крепостного права, половая распущенность была нормой жизни и не считалась развратом. Русское дворянство, не имевшее представления о европейском рыцарстве, о куртуазной любви, не помышляло об этических заповедях в сексуальной сфере. Ему не внушалось твердых моральных устоев на сей счет, ибо власти не ставили своей задачей воспитание общественной нравственности. Начиная с конца XVIII века высший класс подвергся мощному влиянию Запада. Не последнюю роль сыграл приток, главным образом из Франции, литературы либертинажа, которая пусть и неофициально, но свободно распространялась в дружеских кругах. Влияние ее способствовало развитию нарочито легкомысленного стиля жизни в аристократической среде и верхушке интеллигенции, изображенного как в «Евгении Онегине», так и в «Герое нашего времени», где наряду с другими материями светского быта подробно обсуждается искусство соблазна. Что касается половой близости между мужчинами, то в России она, как правило, облекалась в форму отношений между лицами высшего и низшего социального сословия в барских имениях, монастырях, ремесленных мастерских, банях, тюрьмах и просто на улицах больших городов, таких как Петербург или Москва.
К середине XIX века какие бы то ни было сентиментальные представления о любовных отношениях ушли в прошлое и значительная часть как дворянства, так и интеллигенции вышла из подчинения религиозным и экономическим механизмам, сдерживающим сексуальные прихоти. Более того, половая распущенность стала для многих личностным выражением борьбы с политическим деспотизмом. Неудивительно, что некоторые современники Чайковского находили Италию, традиционно считавшуюся сексуально свободной страной, более консервативной, чем Россия, где, «несмотря на деспотический режим, нравы были гораздо свободнее». Литературный критик Николай Страхов со смешанным чувством сожаления и возмущения говорил Василию Розанову, эксперту по сексуальным вопросам того времени, что «европейцы, видя во множестве у себя русских туристов, поражаются талантливостью русских и утонченным их развратом».
Именно в середине позапрошлого века в российских столицах начала складываться новая «сексуальная» идентичность, выделявшаяся на фоне более традиционных отношений. Мужчины с неортодоксальной половой ориентацией начали более интенсивно искать себе подобных. Они находили их в самых разных слоях общества в лице сексуально озабоченных и инициативных представителей городского населения, определявшихся ими как «тетки» (калька распространенного французского вульгаризма tantes). «Тетки» собирались в специфически известных районах Петербурга и Москвы и, пользуясь языком жестов и символов, подчеркнуто невинных, но несущих определенную информацию для посвященных, устанавливали контакт с другими мужчинами. Данная модель отношений ознаменовала решительный разрыв со старыми патриархальными формами мужской сексуальности, и отныне сексуальный рынок России развивался в соответствии с новой иерархией ценностей и новым символическим порядком. Образовалась, главным образом в больших городах, определенная гомосексуальная субкультура вроде той, что укоренилась в Западной Европе с начала XVIII века. Ее нельзя было не заметить. Вот как пишет об этом в лишь недавно обнародованных мемуарных заметках журналист В. П. Бурнашев: «В 30–40, даже 50-х еще годах на Невском проспекте в вечернюю пору, когда выходили на свою ловитву разнообразные гетеры в юбках, — являлось множество гетер в панталонах. Все это были прехорошенькие собой форрейторы… <…> кантонистики, певчие различных хоров, ремесленные ученики опрятных мастерств, преимущественно парикмахерского, обойного, портного, а также лавочные мальчишки без мест, молоденькие писарьки военного и морского министерств, наконец, даже вицмундирные канцелярские чиновники разных департаментов. Они не предлагали, как девки, своих услуг: но едва вы взглядывали на них, шедших всегда очень медленно и останавливающихся у газовых фонарей, чтоб лучше было их видеть, то улыбались, а ежели вы на эту улыбку отвечали улыбкою же, то эти гетеры мужеского пола завязывались за вами и преследовали, идя близко сзади или подле, пока вы не садились на извозчика, чтобы удалиться от этого преследования, ежели преследуемый не был влюблен педерастски. В противном случае гетера-мальчик и развратник ехали вместе в какой-нибудь трактир, где нанимался нумер, или в семейные бани — те, другие или третьи, каких была масса тогда с нумерами. Впрочем, иные любители брали юношей к себе на квартиру. Между молодыми извозчиками, особенно лихачами, было весьма много пареньков, промышлявших этим гнусным промыслом. Само собою разумеется, что все эти субъекты щеголяли своим туалетом и носили канаусовые (шелковые. — А. П.) рубашки. Иные доводили свой гетеризм до того, что белились и красились. Таков был ежевечерний посетитель Невского проспекта юный (18–19—20-летний) чиновник Левицкий, набеленный и нарумяненный, с шатеновыми локонами до плеч. Говорили, что этот мерзавец был во франках (французской болезнью в России называли сифилис. — А. П.), но не спереди, а в заднем проходе, чрез что он многих заражал. Расположение к мужеложству было в Петербурге так развито, что собственно невскопроспектные проститутки начали ощущать страшное к себе пренебрежение, а их хозяйки испытывали дефицит. <…> Зато сколько женщины ненавидели бугров и бардашей, столько их поклонники выражали им публично нежность…» «Бугр» и «бардаш» (французкие bougre и bardache) в середине XIX века были жаргонными терминами для активных и пассивных гомосексуалов. Племянник писателя Ивана Гончарова вспоминал, что в конце 1868 года гуляя с ним по Невскому проспекту и остановившись у витрины магазина, где стояли еще два мальчика, он вдруг услышал «шипение дяди: “Пойдем, пойдем, пойдем скорее”… Дорогой он объяснил мне свою поспешность тем, что мальчики, быть может, подосланы и могли заговорить с нами, а потом донести, что мы приглашали и совращали их… Всю дорогу он говорил мне об этом, — рассказал, что в Петербурге этот порок распространен…».