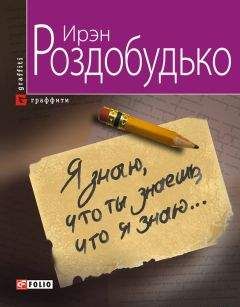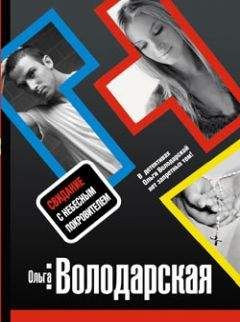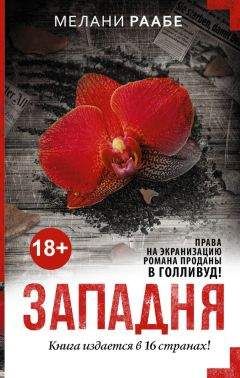Марк Поповский - Управляемая наука
— Какие пропуска? — вознегодовал начальник расчета. — В здании огонь! Посторонитесь! — Он попытался отпихнуть ближайшего охранника и провести свой отряд наверх. Но не тут-то было.
— Ни с места! — скомандовал начальник охраны и расстегнул кобуру.
Воинство в фуражках схватилось за оружие.
— Пожар меня не касается, — заявил начальник охраны. — Без пропуска не пропущу никого. Институт режимный,
— Пропусти, скотина! — остервенясь кричал начальник расчета. — Ты понимаешь, что ты делаешь? Там же люди горят…
— Пусть горят, — невозмутимо ответствовала зеленая фуражка. — Без пропусков не положено…
— Кругом!!! — взревел начальник расчета на своих недоуменно топчущихся подчиненных. И спасатели спаслись от наставленных на них револьверов.
Пока в вестибюле препирались, пламя на шестом этаже разгоралось все сильнее. Там пылала установка, содержавшая триста литров керосина. Были обожженные, сгорело ценное оборудование и бумаги. Погасить огонь в режимном или попросту секретном НИИ приборостроения удалось лишь после того, как пожарные подняли механические лестницы и ворвались в горящее здание через окна. Количество жертв и понесенный институтом материальный ущерб осталось тайной. Зато доподлинно известно, что действия начальника институтской охраны, не допустившего пожарных в здание, были в соответствующих инстанциях одобрены. И не удивительно. Сотрудники могут делать сколько угодно скверную продукцию, могут затрачивать на разработку своих «приборов» сумасшедшие, ни с чем не сообразные средства, могут работать так медленно, что продукция их устаревает раньше, чем ее удается выпустить в свет — за все это с них никто всерьез не взыщет. Даже если бы институт на Кутузовском проспекте сгорел дотла, наказание примененное к директору и его заместителям было бы сравнительно мягкое. Но не дай Бог, чтобы из института произошла «утечка информации». За это с руководителей, говоря языком грубой прозы «снимают шкуру».
Тайна — главный предмет производства в этом и сотнях других секретных НИИ. Секретность — важнейший элемент советской науки.
Для того, чтобы постичь — для чего столь строго таим мы наше научное достояние, необходимо напомнить некоторые основные мифы закрытого общества. Главный миф повествует о том, что граждане социалистического государства — счастливцы по самому месту своего рождения — они живут в единственно прогрессивном обществе, в стране всеобщего благоденствия и довольства. Остальной — реакционный — мир полон злобы и зависти к стране Советов. Поэтому нам приходится все время быть начеку, держать порох сухим, оружие в боевой готовности и сейфы запертыми на три замка. Этот миф имеет свою поросль: «массовый шпионаж иностранных разведок», «наши славные разведчики и контрразведчики», «граница на замке» и т. д. Другая ветвь мифов толкует о советской науке, как о самой передовой в мире, об удивительных открытиях наших ученых во всех областях знания. Выходит, что у нас действительно есть что красть, есть за чем шпионить. А коли так, необходимо каждый институт, каждую лабораторию превратить в неприступный секретный бастион, в каждом научном подразделении возвести заслон против любых поползновений врага, в разделенном антагонистическом мире передовой, прогрессивной науке секретность необходима для защиты своих завоеваний. Такова официальная версия.
Версия эта сравнительно молодая, ей нет еще и полувека. Корни же всеобщей российской секретности лежат гораздо глубже, таятся в многовековых традициях народа. «В России из всего делают тайну» — писал 140 лет назад маркиз де-Кюстин. На 60 лет раньше ту же закономерность отметил Дени Дидро, живший несколько месяцев при дворе Екатерины Второй. А еще раньше о русской подозрительности с изумлением писали все европейцы, жившие у нас в XVI–XVII веках, в том числе Шлихтинг и Олеарий. Взгляд на каждого иностранца как на опасного соглядатая, от которого надо таиться — пронизывает всю русскую идеологию, народную и государственную. Железный занавес недоверия и опасений отгораживал Русь от прочего мира задолго до появления лозунга о пролетарском интернационализме.
Сливаясь с прямой выгодой, традиция становится материалом поразительной прочности. Тот безвестный вахтер, что готов был открыть револьверный огонь по пожарникам, только бы не впустить постороннего на секретную территорию — фигура символическая. Вахтер продемонстрировал, до какой степени традиция в наш век сцементировалась с личной выгодой. Ведь служба у институтских дверей оплачивается значительно более щедро, чем, например, служба младшего научного без ученой степени. А генералы секретности получают примерно те же оклады, что и профессура. Как же тут не радеть, как же не стараться?
Я сделал попытку исчислить стражей научной секретности (не вахтеров, разумеется, а сотрудников так называемых Первых секретных отделов). Первый отдел имеется в каждом институте, в каждом университете, в каждой самостоятельной лаборатории. Учреждения эти как правило очень многолюдны. Три сотни московских НИИ включают в свой состав добрую дивизию борцов за секретность. А всего по научной Руси секретников, надо полагать, не намного меньше, чем их антиподов — сотрудников службы научной информации, число которых достигает 100.000 человек.[55]
По рассказам старых ученых секретность не сразу захватила советскую науку. До Второй мировой войны даже в инженерных, физических и химических НИИ секретные работы были крайне редки. В Государственном оптическом институте (ГОИ), например, до войны засекречивалось не более двух-трех работ в год. Сейчас даже ученому-оптику, приехавшему в ГОИ по делам со служебным письмом, войти в здание института — нелегко. А постороннему и вовсе невозможно. На получение пропуска уходит подчас несколько часов, а то и дней. Но и войдя в здание института, гость не сможет навестить все лаборатории: внутренняя стража требует дополнительных пропусков для прохода на некоторые сверхсекретные этажи.
Секретность начала опутывать науку параллельно с милитаризацией. После войны ученых стали повсеместно привлекать к работе на военные нужды. Закрытые лаборатории возникли почти при каждом ВУЗе. Любую сколько-нибудь интересную научную идею военные стали приспосабливать для своих целей. Денег при этом не жалели. В милитаристские заботы постепенно втягивались исследователи, стоящие как будто в стороне от военных проблем. Им предлагали за крупные деньги изучить тот или иной узкий вопрос, с тем, однако, чтобы на время исследования лаборатория была засекречена. Но засекретить научное учреждение легко, а рассекретить почти невозможно. Так что все новые и новые научные подразделения ввязывались и продолжают ввязываться в разросшуюся до колоссальных размеров паутину безгласности. Ведь сотрудники засекреченных лабораторий не могут ни печатать статей, ни выступать на открытых симпозиумах. Их отрезают от всякого научного общения.