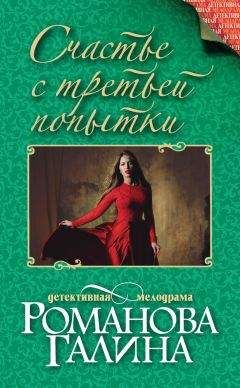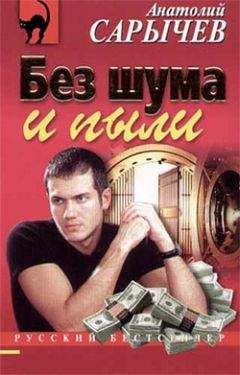Вениамин Каверин - Литератор
Впрочем, работа не пропала даром: она вернула внимание читателей к книге. А читатель — всегда загадка. Если бы он не был доволен, передачу не повторяли бы много раз. И очень немногие согласятся с теми соображениями, которые я здесь изложил.
У нас много пишут о том, что пьесы классического репертуара испорчены бесцеремонной трактовкой. Это неверно. Трактовка романа «Обломов» в экранизации — превосходна. Есть и другие примеры. Их много. Но бывают и неудачи.
В Театре на Таганке поставили «Три сестры», пьесу, для которой характерна, мне кажется, тишина. Говорят вполголоса. «Тихо, как в пустыне», — замечает Маша. Это та тишина, та обыкновенность, однообразие, провинциальность, от которой мечтают убежать сестры. К моему изумлению, на Таганке спектакль начинается громовыми звуками духового оркестра. И нет Чехова, который без шапки убежал бы из театра. Деликатный человек, он, может быть, из любопытства дождался бы антракта. Это — не отсутствие вкуса. Это стремление во что бы то ни стало поставить «Три сестры» не так, как их ставили прежде. Вот почему я считаю, что деятельное участие автора в спектакле — конечно, если он еще не отправился ad patres[94], — совершенно необходимо. Кстати сказать, именно так поступал М. Булгаков, о чем прекрасно рассказал в своей книге «Драматические сочинения» С. А. Ермолинский («Искусство», 1982).
Так или иначе, работая в литературе около шестидесяти лет, написав восемь поставленных и имевших успех пьес, я ни разу не был удовлетворен своими опытами в драматургии. Объяснение — простое, и его можно прочитать у А. Н. Островского: он считал, что «все, что называется в пьесе сценичностью, зависит от особых художественных соображений, не имеющих общего с литературными» («Записка об авторских правах драматических писателей»).
Что же это за особые художественные соображения? «Знание сцены и внешних эффектов», — отвечает он на этот вопрос. И надо сказать, что это — ответ человека, прекрасно знающего свое дело. В этом легко убедиться. Он начинал с пьес плохих именно в том отношении, что они представляли собою прозу, рассказанную со сцены. И не без труда преодолевал эти недостатки, может быть, инстинктивно чувствуя, что «художественные соображения» ведут к созданию одной атмосферы в театре и к совершенно другой — в прозе.
Значит, если бы я хотел быть драматургом, мне нужно было учиться этому — долго, последовательно и упорно. Но в двадцать и сорок лет я долго, последовательно и упорно учился писать прозу. На драматургию у меня не хватило бы времени, тем более что и в двадцать и в сорок лет я был — и остался до сих пор — историком литературы. Некогда классической, потом (и до сих пор) современной. Кроме того, в молодости я был арабистом — учеником знаменитого И. Ю. Крачковского — и кончил Институт восточных языков.
Словом, будем считать, что у меня просто не хватило времени, чтобы стать драматургом. Все-таки не так обидно!
1983
Трагикомедия экранизации
Не помню, в каком году, должно быть, в семьдесят третьем, Л. Н. Рахманов[95] позвонил мне и сказал:
— У меня для вас хорошая новость. «Ленфильм» решил поставить вашу «Открытую книгу». В двух сериях. Режиссер Фетин. Поздравляю вас.
Много лет Леонид Николаевич был членом редакционного совета студии «Ленфильм».
Не могу сказать, что я был восхищен его сообщением. У меня уже был печальный опыт экранизации. Режиссер Дружинина, красивая, энергичная, умеющая терпеливо преодолевать преграды, долго мечтала поставить мой роман «Исполнение желаний». Она добилась своей цели: «Мосфильм» предложил мне написать сценарий.
Я привлек к делу своего молодого, талантливого друга и ученика В. И. Савченко[96], и после продолжительных и утомительных обсуждений сценарий был принят. Это не помешало Дружининой с ходу испортить его, исключив одни сцены и изменив другие. Казалось, это было продиктовано не внутренним убеждением, а потому, что так поступали почти все режиссеры и Дружининой не хотелось быть хуже других. К счастью, умный редактор сценарного отдела не согласился с ней, и работа приняла первоначальный вид.
Все, казалось бы, вернулось на свои места, но, как изнасилованная девушка в известном рассказе И. Бабеля «У батьки нашего Махно», сценарий потерял свежесть и продолжал существовать с трудом. Авторы не были привлечены к выбору актеров, и главная роль была поручена видному, плечистому парню, по лицу которого нетрудно было убедиться в том, что он неспособен разгадать зашифрованную десятую главу «Евгения Онегина» и своими скромными силами решить задачу, над которой бились несколько поколений талантливых ученых. Зато на важную роль сына профессора Бауэра — и этим Дружинина гордилась — был приглашен знаменитый Смоктуновский.
Фильм ставился долго. Когда он был наконец закончен, авторов пригласили на закрытую премьеру.
Владимир Савченко — человек молодой и умеющий справляться с огорчениями. Кроме того, роман-то все-таки написал не он, а я. Поэтому он сравнительно спокойно смотрел фильм, который так же отличался от нашего сценария, как кошка от тигра или селедка от кита.
Самые лучшие страницы романа, старательно отраженные в сценарии, были заменены другими, обязанные своим возникновением воображению режиссера. Нелепости, далекие от здравого смысла, бросались в глаза. Два примера — только два, хотя можно сослаться на десяток других.
Открытие подлинного текста десятой главы в романе и сценарии происходит в кинотеатре. Оно связано с ритмом поезда, который через несколько минут разлучит влюбленных героев чаплинской «Парижанки» (похожую сцену я впоследствии прочел в прекрасном рассказе Бунина «В Париже»), Все связано — ритм колес, трагедия разлуки, поэзия новизны пробегающих по перрону освещенных окон поезда, невидимого на экране. А в нашем фильме открытие происходит на набережной Невы. Машенька Бауэр встречает героя плачущим — очевидно, от радости. Но если бы он не сообщил зрителям, что совершил научный подвиг, можно предположить любую другую причину: у него умерла бабушка, он провалился по истории древней литературы и т. д.
Второй пример: в конце фильма студенты спасают архив Бауэра, который, с благословения его сына, распродает умный, циничный и осторожный авантюрист Новорожин. Идет сильный ливень. Но студенты погружают бесценный архив на телегу — под проливным дождем. (Кстати, я заметил, что, когда надо усложнить или украсить фильм, или ничего другого не придумать, режиссер прибегает к верному приему — начинается дождь.) Какую композиционную или психологическую роль играет эта придуманная режиссером деталь? Только одну. Известный археолог, которого я пригласил на просмотр, охотно ответил мне на этот вопрос.