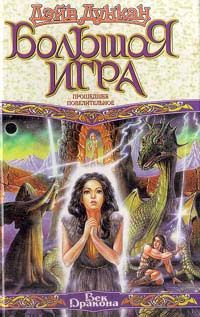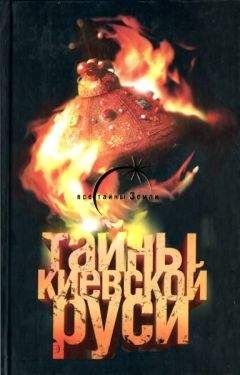Виталий Сирота - Живое прошедшее
Дом стоял в зеленом районе, где было много таких же кооперативных домов. Рядом находились парк Лесотехнической академии, парк Челюскинцев и Сосновка. Для мамы, любившей гулять, это было важно. В квартире был даже небольшой балкон, выходивший в зеленый двор. В доме и во всей округе оказалось много интеллигенции. В народе этот район называли «район еврейской бедноты». Позже оказалось, что здесь провели детство многие друзья сына, даже те, с которыми он познакомился позже в Америке. А в комнате на проспекте Карла Маркса остался жить брат Толя, который к тому времени развелся с женой.
Из факультетской студенческой среды вышли известные диссиденты. Я знаю Георгия Михайлова и Михаила Казачкова.
С Казачковым я учился с первого курса, видел его ежедневно, но практически не общался. Красивый, видный, всегда хорошо одетый с немного капризным, как мне казалось, выражением лица. Его компания была как бы избранной. В общем, не мой круг. Позже, в заключении, он показал себя бойцом. Детально его историю я не знаю, но канва такова. По распределению он попал в знаменитый Физтех. Институт был частично режимным. Казачков общался с иностранцами. Одним из предметов общения была его коллекция картин. Дело закончилось обвинением в шпионаже и пятнадцатилетним сроком, который Казачков отсидел в мордовских лагерях. Как я читал, ему предлагали помилование. Но он отказался, так как помилование предполагает признание вины. В результате он отсидел срок полностью и вышел в числе последних советских политических заключенных. Насколько я слышал, он сидел вместе с Натаном Щаранским, будущим министром правительства Израиля. Позднее был полностью реабилитирован. Сейчас живет в Бостоне. К встречам однокурсников в Петербурге пишет приветственные послания: яркие, талантливые, прочувствованные, с неординарными размышлениями о нашем общем прошлом.
Историю Георгия Михайлова я знаю лучше. Жора был исключительно живым, светским человеком. Советские недостатки не любил острее, чем все мы.
Жора любил интересных людей, общался со студентами из капиталистических стран, которые только начали появляться в Университете. В частности, это были студенты гуманитарных специальностей, приезжавшие в ЛГУ на краткосрочные, например языковые, курсы. Такие встречи официально не запрещались, но и не одобрялись властями. Жора же нарушал эти неписаные, но жестко действующие правила.
Как писал уже во время перестройки генерал КГБ Олег Калугин, «в собственной стране советские служащие (и, видимо, не только служащие. – В. С.) имели право встречаться с иностранцами только вдвоем. Побывавшие в гостях у иностранцев не могли ответить взаимностью у себя дома».
Приведу пример действия этих правил. Один из студентов, Илья Н., потомок знаменитого дворянского рода, еще учась в восьмом классе, познакомился на улице с иностранцем, и тот через какое-то время прислал Илье по почте джазовую пластинку. Через много лет Илья закончил Университет и распределился в закрытый институт, где для работы нужно было получить допуск. Так вот, этот допуск ему оформляли долго и с трудом. Оказалось, что причиной затруднений была та пластинка. Кстати, недавно один осведомленный человек рассказывал мне, что перлюстрацией почты в те годы занимались выпускницы библиотечных техникумов, призванные в КГБ для этой работы. Время от времени девушкам устраивали экзамен – в общем потоке корреспонденции шли контрольные письма, где ключевые слова были запрятаны в нейтральный текст. Не заметивших крамолу сразу увольняли.
Иногда встречи с иностранными студентами происходили у Жоры дома. Помню вечер с американскими студентами-славистами. После небольшого застолья их потянуло на наши песни. С настроением они пели «Темную ночь». Мне было неудобно, что слова песни я знаю хуже, чем они. Во время таких встреч у дома дежурили специальные машины-фургоны, которые уезжали, когда мы расходились. Наше общение было очень интересным. И мы, и западные студенты с жадным интересом смотрели друг на друга. Интересно было все: их одежда, их манеры, их мнения. На мой взгляд, ничего опасного для властей на этих встречах не происходило. Вероятно, властям не нравилось, что общение происходит в неподконтрольной обстановке, вне рамок общества международной дружбы и т. д.
Приглашение Г. Михайлова на кинопробы на «Ленфильм»
Позже я прочел у вышеупомянутого генерала Калугина, что независимость, «отчужденность недоступной их пониманию среды» и вправду раздражала чекистов…
Тогда же началось наше увлечение «неформальными» художниками, то есть работавшими вне официальных союзов и необязательно в манере соцреализма. Их иногда называли художниками-нонконформистами. Картины их покупали в основном западные коллекционеры, в том числе дипломаты, что, впрочем, не делало художников богачами. Московский художник Дмитрий Плавинский вспоминал: «Мое, как и многих художников, невыносимое материальное положение было результатом хрущёвского разгрома левых художников в Манеже. За ним последовала темная ночь ильичёвщины… В газетах и по радио все абстракционисты, как нас огульно окрестил тов. Ильичёв (тогдашний идеолог от культуры. – В. С), объявлялись опасными диверсантами, за спинами которых стоял западный капитал. Нашими подлыми действиями руководила опытная рука ЦРУ Ильичёв в одном был прав: наши работы, никому не нужные на родине, в основном покупались западными дипломатами и корреспондентами. Платили гроши, но дающие нам возможность хоть как-то сводить концы с концами…»
Справа – Георгий Михайлов
В 1974 году состоялась выставка московских нонконформистов. Она вроде не была запрещена. Но, как назло, место экспозиции начали благоустраивать как раз во время ее начала. Бульдозеры ровняли землю и уничтожали картины. Выставка стала знаменитой; ее назвали «Бульдозерной». Один из организаторов, художник Оскар Рабин, как вспоминают, «буквально висел на ноже одного из трех бульдозеров». Недавно, спустя сорок лет, была открыта выставка памяти Бульдозерной и вышел неплохой фильм, посвященный тому, уже ставшему легендарным, событию.
Тягостная атмосфера ощущалась не только художниками. Валентин Сафонов, вспоминая об учебе в Литинституте (вероятно, в 60-е годы), приводит длинный список спившихся или покончивших с собой соучеников и заключает: «Не стану продолжать этот грустный и бесконечно долгий мартиролог. Люди, перед памятью которых я низко склоняю голову не были душевнобольными или в чем-то виноватыми. Виновато время – беспощадное, удушливое, как ветер пустыни – самум. Кто-то, не видя выхода, сжигал себя в пламени алкоголя, иные – яростные и нетерпеливые – глотали яд, стягивали на шее петлю, выбрасывались с балконов многоэтажек» (Эмиграция в никуда //Слово. 1991. № 1).