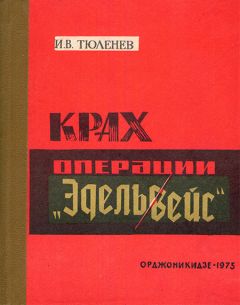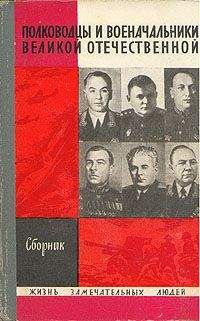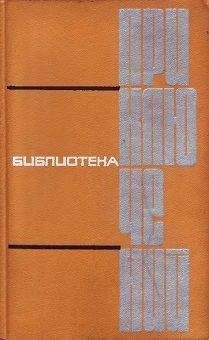Ханну Мякеля - Эдик. Путешествие в мир детского писателя Эдуарда Успенского
Иногда Эдуард отвечает неохотно, иногда более весело. Я также всегда могу сопоставить его ответы с моими личными воспоминаниями и воспоминаниями окружающих и рассматривать их вместе и по отдельности. Моя свобода в том, что я пишу не биографию в чистом виде, а хронику воспоминаний, главным образом, воспоминаний о совместных поездках и встречах. О его пути, а тем самым и о моем собственном.
Однако то и дело всплывают и новые факты, и новая информация. Когда я пишу письмо по электронной почте и спрашиваю, были ли его детство и юность счастливыми, Эдуард, который часто немногословен (ведь и книги его по стилю таковы, хотя внутри пространны), отвечает мне тут же:
«Ханну, что, собственно, такое юность? Я смутно помню предвоенные годы. У отца была дача, которую он получил в пользование от ЦК коммунистической партии, где отец работал. Из дачи я помню трехколесный велосипед с металлическими колесами, какую-то воду и зелень. Вот и все».
Это самое раннее воспоминание Эдуарда о детстве. Оно, по сути дела, очень хорошо подходит будущему инженеру (велосипед) и живущему по большей части в сельской местности детскому писателю. Хотя Успенский и получил квартиру в Москве, быть в городе ему нравилось не долго. Он по-видимому всегда составляет исключение из общего правила. После улицы Усиевича он жил сначала в Клязьме, потом в Рузе, потом некоторое время в Москве, потом в Переделкино, а с 2008 года — вблизи города Троицка. В сельской местности простора и пространства, чтобы дышать, и свободы больше, чем в городе. Это место для человека, любящего животных, то есть больше, чем просто случайный выбор. Все собаки, кошки, птицы и рыбы просто не поместились бы в московской многоэтажке.
Первые воспоминания детства представляют собой главным образом картины:
«Затем смутно помню поезда, вагоны, кипяток для чая. Какие-то сушилки с одеждой; из нее выводили вшей. Помню себя совсем маленьким в женской бане. Нас эвакуировали тогда из Москвы и увезли за Урал».
Крошечная биография матери подтверждает и это событие и относит его к 1941 году. И Эдуард тоже помнит его: «В 1941 году нас эвакуировали за Урал, в город Шадринск, вблизи которого находилось озеро Балтым». За Уралом они были в эвакуации два года, а затем опять вернулись в Москву в августе 1943 г.; именно тогда в Финляндии случилось родиться мне. Хотя война еще даже не приближалась к концу, поворот к лучшему, с точки зрения Советского Союза, уже произошел. Забрезжило поражение Германии — а вместе с тем и Финляндии, которая привязала себя многими узлами к Германии в своей тогдашней мудрости.
За Уралом мать с детьми жили в двух местах — в городе Шадринск и в Верхне-Тюменской области. И из этого времени в памяти Эдуарда всплывают проблески:
«Каким-то образом помню также детский сад, который находился на берегу реки. Помню и то, как нам, детям, присылали посылки с фронта — в них были игрушки, немецкие. А среди них был семафор для регулирования движения игрушечных поездов. В семафоре сменялся свет… Эти игрушки отдавали тем, чьи отцы погибли на фронте. А я чувствовал обиду, что мой отец жив».
Происходило ли это из-за того, что отец и так был уже безнадежно далеким и чуждым? Возможно.
И наверное, еще и потому, что не получил игрушку, именно это лучше всего запомнилось маленькому Эдуарду.
2Два года из раннего детства прошли, таким образом, на Урале. И когда в августе 1943 г. они вернулись в Москву, а Эдуарду было всего пять лет, выглядела столица действительно необычно. Повсюду были ямы для фундаментов домов, брошенные строительные площадки и скелеты зданий, оставшиеся после бомбежек. Но все-таки находились и целые дома. В ямах для фундаментов стояла вода, а в воде жили лягушки, даже рыбы. Это Эдуард помнит. А другое зрелище поднимало его взгляд прямо в небеса. Со всех сторон над домами сотнями парили большие воздушные шары на длинных канатах; это были заградительные аэростаты, предназначенные для того, чтобы препятствовать операциям немецких самолетов над Москвой.
Я могу себе представить, каково было смотреть на них, и как будто вижу все это собственными глазами, хотя тогда только родился. Я принадлежал к вражескому лагерю, и моя мать принадлежала к нему тоже. Она описала в книге «Eloni alkutaiva» («Начало моего жизненного пути») свои настроения того дня, когда я родился в Акушерском училище: «Финляндия в состоянии войны с русскими и англичанами. В Хельсинки часто тревоги. Беспокойно». Погода была в момент моего рождения «дождливая, иногда солнце из-за туч».
А новая обстановка, разбомбленная Москва постепенно становились в уже более зорких глазах Эдуарда будничным миром. Окна по вечерам занавешивали черной бумагой — ни лучика света не должно было просочиться на улицу. Темнота была и пугающей, и защищающей. И он к ней привык. Говорят, ребенок привыкает ко всему. Защиту он получает от дома, от самых близких. Для маленького ребенка хуже всего непрерывные перемены, всегдашняя адаптация к новому, а не условия как таковые, даже если они мало подходящие. Ведь ребенок не может знать о лучшем, потому что еще не умеет сравнивать.
Перемены намечались и в московской жизни. Но только намечались. Отношения сына с родителями оставались отчужденными. Я не знаю, почему, но у многих писателей самыми близкими становились дедушки и бабушки, скорее, именно бабушки. Брошенных детей хватает. И мать Эдуарда забросила своего сына тем, что была духовно отчужденной. К счастью, мать его отца (бабушка) жила в той же квартире. Она владела комнатой в шестнадцать квадратных метров. Мать не хотела поддерживать связь с родственниками, так что родственники отца заходить к ней не имели права; постепенно мать просто изгнала их из своего окружения. Но бабушка была другого склада. Эдуард вспоминает, как в ее комнате на полу могли спать порой даже восемь приехавших в Москву родственников, и тогда маленький Эдик виделся с ними. В других местах простору было больше, но двери тех комнат оставались закрытыми.
Из рассказов Эдуарда я узнаю, что бабушка любила маленького мальчика. Мать, напротив, становилась все более далекой. И не только из-за того, что она отправлялась, подобно своему мужу, к девяти часам на работу и возвращалась вечером около одиннадцати. Совместных моментов в сущности даже не было, а если были, они казались ненастоящими. Зато бабушка всегда была рядом.
Быть родителем — материя не биологическая, а духовная. Кто любит и дает защиту и близость, тот и будет отцом или матерью ребенка, а иногда и обоими сразу.
Биологическое «родительство» означает лишь генотип: оно не дает путевку в жизнь.
Во время войны и после нее все было в дефиците — и даже в семье Эдуарда, хотя отец и работал в партии. С приходом весны и лета бегали босиком по мягкому асфальту. Но когда наступали холода, с обувью было хуже. Эдуард рассказывает: