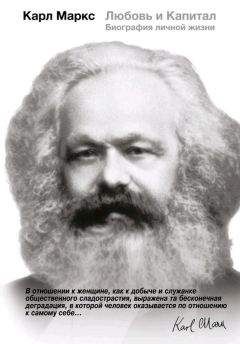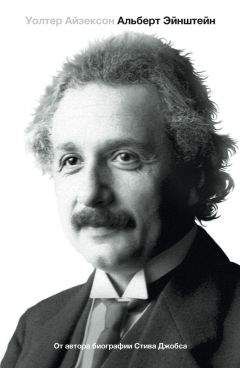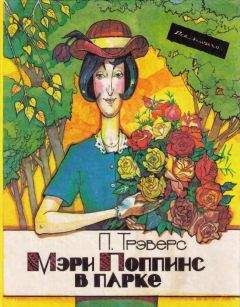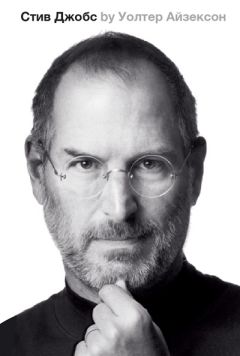Марсель Брион - Микеланджело
В Карраре Микеланджело вновь обрел то одиночество, которого порой боялся, и тем не менее оно было ему необходимо. Среди этого ледяного пейзажа успокаивалась его пылкая душа. Пламя, пожиравшее «мужчину из пакли», угасало. Перед ним снова был достойный его противник, грубый блок, duro sasso, твердый камень, из которого он заставит выйти форму, взлелеянную мечтой.
Он работал вместе с каменоломами, сильный, выносливый, как надежный товарищ, и рабочие восхищались этим художником, другом кардиналов и дворян, который, как и они сами, не гнушался тяжелой работы и действовал кувалдой со сноровкой бывалого каменотеса. Наконец блок был готов. Обтесанный, он уже выдавал будущие контуры произведения.
Он возвращается в Рим и там, запершись в своей мастерской, забывая обо всем, что его окружало, лихорадочно устремляется в эту битву. Когда произведение было закончено, он гордо поставил свою подпись на ленте, удерживающей плащ Мадонны: Michaelangelus Bonarotus Florent. Faciebat. Не в каком-нибудь скромном месте, а прямо поперек груди Мадонны. Так он был горд своей статуей.
Но эта подпись означает и кое-что другое. Цель ее не столько в том, чтобы сохранить в памяти людей славу своего имени, сколько своеобразно «запатентовать» авторство произведения. Как если бы он хотел сказать: автором всего, сделанного мной до сих пор, — Амура, Вакха, Битвы кентавров — был другой я. Теперь я впервые такой, каков в действительности. С композицией Пьета рождается Микеланджело.
И действительно, это творение — провозвестник, первый крик того нового мира, который возникает с новым веком на склоне Кватроченто. Микеланджело начинает Пьету в 1497 году. Больше ста лет конкурс на врата флорентийского Баптистерия носил характер некоего эстетического состязания между всеми великими скульпторами того времени. Этот конкурс был настоящим началом Ренессанса. То была заря золотого века. Теперь все мастера Кватроченто были мертвы. Мертв и Лоренцо Великолепный, душа и цветок Ренессанса. Мертв и так яростно боровшийся с ним Савонарола. В мире мысли и искусства рождались новые и совершенно неожиданные для всех пристрастия и идеи. Был достигнут идеал спокойного, улыбчивого изящества, чувственной удовлетворенности, безмятежного равновесия, к которому стремились мастера Кватроченто. Теперь предстояло их превзойти.
Нужно было отказаться от этого главенства слишком мудрого разума, от этой слишком земной мудрости, от наслаждения жизнью, забывавшего о запросах души. Да, было достигнуто известное равновесие, но оно держалось лишь на отрицании того, что могло его нарушить. Считалось, что плоть и разум могут жить в безмятежной гармонии, но в действительности это было возможно лишь за счет сделки между аппетитом плоти и чаяниями разума. Но на компромиссе ничего прочного построить нельзя. Нужно иметь смелость встретиться лицом к лицу со стремительным наплывом чувств, сердечной тревоги, зовом измученной души. И речь здесь идет не столько о том, чтобы достичь иллюзорного, искусственного мира между антагонистами, сколько о том, чтобы найти свое место в строю сражающихся.
Легкого язычества гуманистов больше недостаточно для сознания, сформированного пятнадцатью веками христианства. Хотели того или нет, но драма Креста присутствовала всегда, и перед каждым вставала одна и та же проблема отношений человека с Богом. Потому что было недостаточно поступать так, как если бы не было Бога или как если бы можно было легко разделить почитание верующих между ним и Аполлоном, Дионисом или Великим Паном. Сам факт Откровения был необходим для умов, сформированных долгой христианской наследственностью. Факт жизни и смерти Христа. Созерцая этот труп, лежащий на коленях Мадонны, труп Бога, Микеланджело ваял ниспадавшее мягкими изгибами платье, плащ с крупными складками, покрывавший Мадонну. Он словно нежно ласкал своим резцом плоть Распятого, и в нем пели стихи, пылкая молитва нового века, который по-своему, своими собственными путями найдет дорогу к Богу.
Удостой меня, Господи, выражать тебя повсюду, где я тебя вижу, чтобы душа моя, исполненная твоего божественного света, потушила всякий пыл, который был бы тебе неугоден, и вечно пылала в твоей любви.
Я взываю к тебе, о мой Боже! Тебя одного призываю в борьбе со своею слепой и суетной страстью. Возроди в моем сердце через искреннее раскаяние мои чувства, мои желания и мое умирающее целомудрие.
Ты предоставил времени мою бессмертную душу в ее хрупкой оболочке, ты отдал ее судьбе.
Увы, не оставляй ее, и чтобы укрепить, и чтобы поддержать. Без тебя она лишена всякого блага, и спасение ее зависит только от твоего могущества.
* * *Когда Пьета была закончена, он уехал во Флоренцию. В Риме его ничто больше не удерживало. Ему не терпелось вернуться в город, где еще жила идея Савонаролы. Ученические годы закончились.
Я говорю не о профессиональном обучении художника, которое завершилось уже давно, а о становлении человека. Он прошел через огонь и вышел из него несущим в руках воплощение лучистой юной красоты — Богоматерь с телом своего сына. Телесное великолепие мертвого Христа вызывало в памяти образы убитого Адониса, замученного Орфея. Древние узнали бы в нем вечную фигуру страждущего Бога, сошествующего в Ад, чтобы выйти оттуда воскресшим и возвестить тем самым наше обновление. Но вместе с тем эта Мадонна была совершенно новой. Возраст не изменил великолепия ее черт. Она не была похожа на мать, разве что на сестру этого лежавшего на ее коленях мертвого мужчины. Слишком трагичная и слишком скорбная Пьета далеко не была излюбленной темой скульпторов Ренессанса; они предпочитали молодую мать, кормящую грудью своего младенца. А готические художники тщательно подчеркивали возраст Мадонны, которая, по всей вероятности, в момент смерти сына была женщиной 45–50 лет, так как евреи женятся молодыми. Они тщательно выписывали на ее изможденном лице признаки старости, физического и нравственного страдания.
В противоположность этому Микеланджело создает молодую девушку, тело которой остается девственным. Боль матери не искажает мирной красоты ее лица. И если бы кто-нибудь удивился тому, что эта Мать, только что перенесшая такие испытания, сумела сохранить покой и чистую доброту, Микеланджело ответил бы, что красота осталась в неприкосновенности потому, что это красота души, та самая красота, которая не подвержена ни влиянию времени, ни бурям страсти. Телесная красота умирает, разрушается, потому что принадлежит времени и уходит вместе с ним. Но существует другая красота, та, что преодолевает время и для которой времени не существует, как сказано в Апокалипсисе.