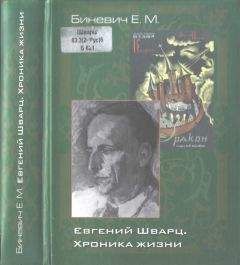Евгений Шварц - Позвонки минувших дней
Утром 9 июня, старого стиля, то есть ровно сорок лет назад, я проснулся с ощущением неблагополучия. Я уже не помнил, что Милочка сказала мне «да», не придавал этому значения. Передо мной стояло одно: Милочка, когда я хотел ее поцеловать, протянул к ней руки, сделал шаг вперед, — ужаснулась, рванулась в сторону и убежала. Я шагнул вперед молча, неуклюже. Зачем я это сделал? В середине дня меня известили, как вчера, что у гимназисток будет вечер выпускниц и мы приглашены. Мне стало как будто полегче. И вот я пришел на вечер в женскую гимназию. Это было одноэтажное здание, единственное, кажется, в Майкопе не выбеленное, а покрашенное клеевой краской в желтый цвет. Думаю, что это было одно из самых старых зданий в нашем молодом городе. Вероятно, здесь было что‑нибудь вроде офицерского собрания. Построено здание было в шестидесятых — семидесятых годах, но на Кавказе еще сохранялся в те годы николаевский, петербургский ампир. Высокие сводчатые окна, высокие потолки, и к 1912 году — на всем налет старости. Небольшой двор, засаженный кустами акаций, ограничен был зданием гимназии в форме буквы «Г» и забором. А против коротенькой стороны «Г» в том же дворе белели стены тутуринской квартиры — квартиры начальницы. Первое, что я обнаружил, придя на вечер, — Милочка не пришла! Я стал искать ее. Вышел на улицу. Крачковские жили совсем близко от гимназии. Дошел до поворота к ним. Милочки нет. Тогда я попросил Олю Янович и Лёлю Соловьеву пойти узнать, что с ней. Это было так же не свойственно мне, как и мое вчерашнее поведение: я посмел показать свои чувства! Но Оля и Лёля не удивились и не смутились, а очень просто согласились. И через полчаса вернулись с Милочкой. Но Милочка едва поздоровалась со мной. Я пришел в отчаянье. Студент Шапошников залюбовался Милочкой и попросил меня познакомить его с ней. Я резко отказал, чем крайне удивил его. А я подошел к Милочке, которая упорно не отходила от подруг, и сказал, что хочу поговорить с ней. Она пожала одним плечом, но послушалась. И вот, ходя взад и вперед по дворику, освещенному гимназическими окнами, мы объяснились. Я ходил, срывал листики акаций, сдергивал в пучок и был счастлив. Ровно сорок лет прошло.
10 июня сорок лет назад я проснулся с ощущением счастья. После вчерашнего разговора я был переброшен в новый мир. Я чувствовал себя куда более новым человеком, чем после прошлогоднего падения в Сочи. Я, бродя с Милочкой взад и вперед по гимназическому длинному дворику, выяснил все: что она в самом деле рассердилась на меня вчера. (За что? Это не было названо.) Но теперь — прощает. (Почему? Это не было тоже сказано. Я был так сокрушен своей дерзостью, что даже назвать ее не смел. Подумать даже не мог о таких словах: «Милочка, прости за то, что я хотел тебя поцеловать».) Теперь я понимаю, что мы говорили обо всем этом, но другими словами. И она подтвердила, что любит меня тоже. И мы с наслаждением стали говорить о том, что до сих пор только смутно угадывали. О том, когда она впервые заметила, что я люблю ее, о разных встречах в прошлом, несчастных и счастливых, и о том, почему это получилось так. Но вот загремел последний марш, и Милочка простилась со мною. Кто‑то из подруг ночевал у нее, поэтому проводил я ее только до уголка. Я сказал шутливо, что, как рыцарь, буду стоять тут на углу, ждать, пока они не дойдут до дому. И мы расстались. Днем я встретил ее с Олей, и мы немножко поговорили, и Милочка была со мной ласкова. И этот день я причислил к счастливым. Вечером у папы играли бетховенские квартеты. Он играл первую скрипку, сердился, останавливал партнеров, но вот наконец они сыгрались, а я сидел в уголке и слушал. Впервые со всей ясностью ощутил я, что произошло, и поверил, что можно радоваться. Эти дни сорок лет назад во многом определили мою жизнь. Началась полоса радостей, а больше мучений — такой силы, что заслонили от меня весь остальной мир. История с неудавшимся поцелуем тоже определила многое. Я был немыслимо почтителен к Милочке. Я не смел «назначать ей свидание», самая мысль об этом приводила меня в ужас. Поэтому я бегал по улицам, искал встречи. Я не смел сказать ей ласкового слова. Но любил ее все время. Всегда. Изо всех сил.
Сегодня исполнилось два года с тех пор, как начал я вести эти тетради на особых условиях, заключенных с самим собой[32]. Многолетние занятия детской литературой ограничивают круг предметов, о которых позволяешь себе писать. Детский писатель — сочинитель, литератор по преимуществу, потому что имеет дело с читателем, требующим особой формы рассказа. Желая избавиться от всех этих неудобств, я решил во что бы то ни стало писать нечто ни для чего и ни для кого. Научиться рассказывать все. Чтобы совсем избавиться от попыток даже литературной отделки, я стал позволять себе все: общие места, безвкусицу. Боязнь общих мест и безвкусицы приводят к такой серости, что читать страшно. Пустыня желтого цвета под солнцем имеет выражение. Пустыня серого цвета без солнца с серым небом — это уже и не страшно хотя бы. Позволив себе все, окончательно запретил себе зачеркивать что бы то ни было, даже попытки литературной отделки. Запретил себе переписывать то, что написано, так что я, вероятно, повторяюсь. К чему это привело? Начав писать все, что помню о себе, я, к своему удивлению, вспомнил много — много больше, чем предполагал. И назвал такие вещи, о которых и думать не смел. Но боюсь, что со всеми своими запрещениями я их именно только назвал, а не описал. И чем я взрослее, тем труднее мне описывать. Но я не врал. В первые дни записей я своими рассказами раза два был близок к тому, чтобы заслонить от себя пережитое или по — новому осветить. Но это прошло. Пережитое воскресало для меня день за днем, иногда с такой ясностью, что терялось ощущение чуда, с которым я смотрел на майкопские времена. Но, видимо, пришло время ставить себе задачи потруднее. Написав эти слова, я с удовольствием и удивлением заметил, что мне жалко будет бросать эти воспоминания. Привыкнув относиться с уважением к работающей части, к производящей части своего существа, я считаюсь с его желаниями…
Лето 1912 года незаметно — незаметно перешло в осень, а каникулы — в последний год учения в майкопском реальном училище, но я был полон одним: своей неизменной любовью, поэтому все внешние изменения проходили где‑то за пределами жизни. Занятия, уроки, будни, праздники — все это было фоном, который был сознаваем по одному признаку: мешал он или способствовал встречам с Милочкой. Но я менялся.
Правда, все по — прежнему я развивался душевно и отставал умственно, как и всю мою жизнь. Но душевная жизнь заставляла меня и задумываться. Вот тут и образовалась особенная манера думать — лицом к лицу с предметом… А кроме того, произошло событие, определившее мою жизнь. Событие это было более важным, чем встреча с моей первой женщиной. Произошло это так. Осень стала вполне осенью. Прошел день моего рождения, 8 октября, и мне исполнилось шестнадцать лет. Я часто теперь встречался с Милочкой. О свидании я, конечно, и думать не смел. О том, чтобы назначить свидание. Я ловил ее на улице, по дороге в библиотеку. Первая ученица в классе, Милочка, кроме того, читала так же много и беспорядочно, как я. Я уговаривал ее, когда она выходила, переменив книгу, пойти погулять в городской сад, и она соглашалась, молча поворачивая в боковую аллею. Иногда она сама поворачивала туда. Это время было самым трудным в истории наших отношений. Мы еще дичились друг друга. Говорить было не о чем. И осенний сад с мокрыми деревьями — в эти часы и в такие дни я не бывал в нем до сих пор — глядел незнакомо и неласково. Но я стал писать в эти дни. И произошло вдруг то событие, о котором я говорил. Я писал стихотворение, как всегда, очень приблизительно зная, как я его кончу. Писал просто потому, что был полон неопределенными поэтическими ощущениями. И вдруг мне пришло в голову, что я могу описать облако, которое, как палец, поднялось на горизонте. Я его не видел, а придумал. И это представление с непонятной мне сегодня силой просто ударило меня. Не самый этот образ — сознание того, что в стихотворении я хозяин. Что я могу придумывать. Эта мысль просто перевернула меня. Я хозяин! И я написал стихи о распятии, очень плохо вырезанном деревенским плотником, но перед которым, плача, с деревенской верой молилась женщина. Я был в восторге.