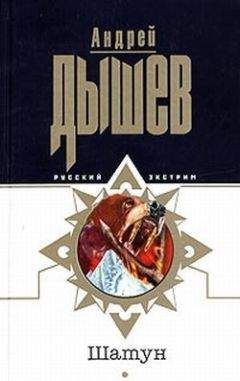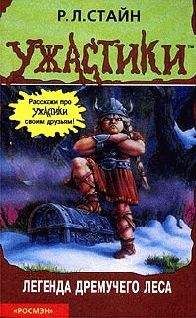Виктор Афанасьев - «Родного неба милый свет...»
И Иван Петрович слышал это: он только покраснел немного, словно стыдясь за Хераскова, старого своего товарища. Андрей выжидающе обернулся к нему.
— Что ж, мой друг, — тихо сказал Иван Петрович после долгого молчания, — никто из нас не в силах пройти всех градусов совершенствования… Великое таинство может получить только тот, кто станет нравственно столь чист, сколько человеку возможно… Ну, а все-таки монархи не выше человеческих законов. Михайло Матвеевич неправ.
Жуковский был счастлив: какие люди! Жизнь за них отдать…
Стихи, которые писал Андрей Тургенев, тоже звучали грозно:
…Но счастья не ищи — его здесь нет для нас,
В сем мире, где злодей, страх божий забывая,
Во злодеяниях найти блаженство мнит.
Рукою дерзкою сирот и вдов теснит,
Слезам, отчаянью, проклятьям не внимая.
Как-то, возвратясь из одного бедного дома в Огородной слободе, не снимая намокшего от дождя сюртука, Андрей долго сидел перед зажженной свечой, сжав ладонями виски и не вытирая капающих на стол слез… Жуковский этого не видел. И если бы мог он прочитать то, что записал Андрей в этот вечер в своем дневнике! Хотя нельзя поручиться, что он не слышал от старшего друга слов, подобных следующим: «Россия, Россия, дражайшее мое отечество, слезами кровавыми оплакиваю тебя; тридцать миллионов по тебе рыдают! Но пусть они рыдают и терзаются! От этого услаждаются два человека, их утучняет кровавый пот их; их утучняют горькие слезы их; они услаждаются; на что им заботиться! Но если этот бесчисленный угнетенный народ, над которым вы так дерзко, так бесстыдно, так бесчеловечно ругаетесь, если он будет действовать так, как он мыслит и чувствует, вы, ты и бесчеловечная, сладострастная жена твоя, вы будете первыми жертвами».
М. М. ХЕРАСКОВ. Литография.
Самодурство императора Павла неожиданно коснулось литературных симпатий молодого тургеневского кружка: Август Коцебу, немецкий писатель, которого все они почитали, усердно переводили, в начале 1800 года приехал из Вены в Россию, но был неожиданно схвачен на границе и без всяких объяснений сослан в Тобольск. В июле так же неожиданно Павел его освободил и… назначил директором немецкого театра в Петербурге. А за что пострадал человек, осталось неизвестным. Андрей, узнав об этом, возмущался:
— Россия опозорена! Беззаконие — вот российские законы!
…Однажды осенью 1800 года Андрей Тургенев позвал Жуковского к Воейкову:
— Он будет наш друг. Пойдем, Василий, не пожалеешь! Пришли еще засветло. Прошлепали по размокшей дорожке, толкнули полуоторванную калитку. Засыпанная листьями тропа вела к дому, который чернел мокрыми бревнами из-за ветвей полуоблетевших лип и берез. Цветочные клумбы расползлись и были едва приметны. Друзья поднялись на террасу.
— Осторожнее, — предупредил Андрей.
В полу террасы темнели дыры, оттуда высовывались пожелтевшие стебли бурьяна. Стекла во входной двери были разбиты: оставалось лишь несколько цветных осколков.
Андрей потащил изумленного Жуковского в комнаты. В одной из них, обставленной диванами из красного сафьяна и кожаными креслами в ситцевых чехлах, сидели за круглым столом Воейков, Кайсаров и Мерзляков… Воейков радостно вскочил, сверкнув узкими калмыцкими глазами, обнял Андрея и одновременно протянул руку Жуковскому:
— Привел-таки скромника! Воейков…
У него было мясистое лицо с утиным толстым носом и размашистые манеры.
— Это ваш дом! — говорил он. — Приходите сюда когда захотите, а как надоест ходить — я продам его на дрова… И пойду пилигримом во святый Киев-град…
— Да ты уж, пилигрим, никак пьян! — добродушно заметил Андрей.
— Пьян от любви к друзьям! — обнял Воейков одной рукой Кайсарова, другой Мерзлякова, которые смущенно улыбались, так как и их Воейков заставил хватить по стаканчику-другому.
Тем не менее все пошло всерьез. Андрей Тургенев прочитал только что переведенную им драму Коцебу «Негры в неволе». Немедленно вспыхнул разговор о тиранстве. Воейков кричал больше всех. Потом Андрей заставил его прочесть вслух поэму «Святослав», напечатанную этой осенью в «Иппокрене», — Воейков подражал в ней «Фингалу» Оссиана-Макферсона и — неожиданно — Юнгу… Святослав получился у него чувствительным богатырем… Кончив читать, Воейков взял гитару и запел:
Всех цветочков боле
Розу я любил…
Андрей неожиданно и весело подхватил:
Ею только в поле
Взор мой веселил!
Не переставая петь, все шумно поднялись и вышли в сад — на другую сторону дома. Там было темно, ветер качал мокрые деревья. Молодые люди с хохотом вломились в кустарник, увязли в грязи, но старались перекричать друг друга:
Роза не увяла —
Тот же самый цвет;
Но не та уж стала:
Аромата нет!
…На другой день вечером Мерзляков пришел к Жуковскому, походил по комнате, сел. Угрюмо спросил, более чем обычно напирая на «о»:
— Понравился тебе Воейков?
— Славный.
— Так и есть. Но все как-то не наш вроде… Я, ты да Андрей Тургенев — наша дружественная триада. Я вот что придумал: составим-ка книгу из наших стихотворений, одну на троих. Соберем всё лучшее, кое-что напишем заново и выдадим в свет под буквами М.Ж.Т.! То есть Мерзляков-Жуковский-Тургенев… То-то будет дань нашей дружбе!
Широкое лицо Мерзлякова, по-мужицки простоватое, краснощекое, вдруг осветилось детски радостной улыбкой.
— Великая мысль! — воскликнул Жуковский. — Идем к Андрею…
У Андрея просидели до полуночи, пока сторожа не застучали в колотушки. Составили список сочинений. Жуковский предложил «Майское утро», две «Добродетели», оду «Могущество, слава и благоденствие России», «Стихи на новый 1800 год» и еще ряд собственных и переводных стихотворений. Андрей — послания к Карамзину, Кайсарову, «Надпись к портрету Гёте», эпиграммы и другое. Мерзляков — «Истинного героя», «Ночь», «Ратное поле», «Росса», «К Уралу», а главное — «Славу», в которой он подражал Шиллеровой оде «К Радости», и — «Гения дружества». Последнее стихотворение все трое знали наизусть: оно стало для них как бы гимном. И тут они, не сговариваясь, а только взглянув друг на друга, громким шепотом продекламировали:
Да будет дружество священно!
И, добродетели лучом
Небесным, чистым озаренно,
Да будет славно в мире сём!
Жуковский и Мерзляков уже вышли на улицу, когда раздался оклик Андрея: