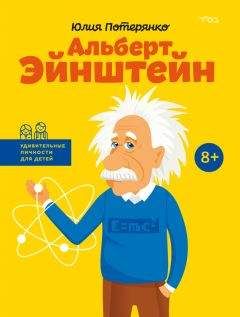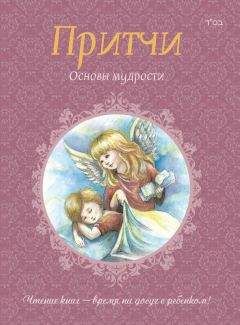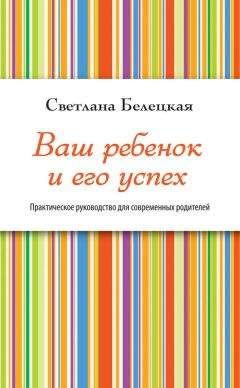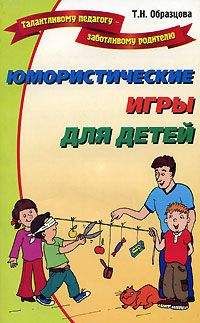Валентин Новиков - Илья Глазунов. Русский гений
Глазунов с присущей ему неистовостью в труде продолжал совершенствовать профессиональное мастерство, сопровождавшееся углубленными раздумьями о смысле жизни, творчества, предназначении искусства и своем месте в нем.
Дневниковая запись от 12 января 1952 года:
«Думать о том, что должно говорить твое искусство, и рисовать надо много, щенок ничтожный! Я столько отдал искусству, что, может быть, оно и улыбнется мне? Искусство! Это правда жизни, прежде всего. Думаю о людях в картинах и небе над ними».
От 16 марта 1952 года:
«…Помни, если ты захочешь обмануть искусство, оно тоже не простит. Знай это! Строй красивые отношения с людьми, чтобы они помогали искусству!»
В дневниковых записях и воспоминаниях Ильи Сергеевича, относящихся к студенческим временам, открывается также и то, как стремительно и неуклонно расширялся круг его познаний в самых разных сферах. Удивляет огромное количество философских, музыкальных, литературных, исторических (не говоря уже о художественных) произведений, наполнявших его духовную жизнь. В овладении профессиональным мастерством нельзя не отметить роль Бориса Владимировича Иогансона, к которому Илья Глазунов пробился после III курса, предпочтя его мастерскую мастерской Ю. Непринцева, в которую первоначально попал.
Б. В. Иогансон, вице-президент Академии художеств СССР, был одним из основоположников и столпов соцреализма. Однако, по убеждению Ильи Сергеевича, мертвого искусства. «Мертвого потому, что ложь не дает жизни художественному образу картины. Но чтобы люди верили в ложь, ее облекали в вечные формы искусства, отражающие реальные формы Божьего мира». И как он позже скажет, власти жаждали аплодисментов за проводимую политику, а чтобы изобразить аплодисменты – надо уметь нарисовать хотя бы руки. Потому вновь была востребована школа, а студенты стали изучать натуру и великие заветы старых мастеров. Что сейчас, даже в академических учебных заведениях, снова, как в погромные послереволюционные годы, предается забвению.
Иогансон был высокопрофессиональным мастером, учившимся в дореволюционную пору в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у выдающегося Константина Коровина. Его уроки были впечатляющими, хотя, по воспоминаниям Ильи Сергеевича, он никого не пускал в свою душу, и его лицо напоминало маску. Но однажды, по просьбе Глазунова, которого Иогансон особо выделял среди учившихся, Борис Владимирович согласился совершить посещение Эрмитажа. В зале Рембрандта, остановившись перед «Блудным сыном», Иогансон сказал: «Вот моя любимая картина». И тогда с его лица как бы спала неприступная, исполненная амбициозного пафоса маска и открылось лицо истинного художника. А его ученики по-новому осознали великую драму, запечатленную на полотне.
Навсегда останется благодарен Глазунов своему учителю за открытие значения композиции старинных мастеров. Хотя после первой выставки Глазунова в Москве, вызвавшей всеобщий переполох, напуганный Иогансон, общаясь с министром культуры СССР Михайловым, отречется от любимого ученика. Более того, в газете «Советская культура» он назовет его соискателем славы, возомнившим себя новоявленным «гением», сделавшим ставку на «формалистические штучки» и организовавшим себе персональную выставку. Так было положено начало целому потоку обвинений в адрес Глазунова, тогда еще преддипломника, закрывшему ему вход в какие-либо художественные структуры. Ведь они прозвучали из уст не только его учителя, но вице-президента Академии художеств, год спустя ставшего ее президентом.
Но при всем этом Глазунов не стал мстительно обливать Иогансона грязью, когда уже имел возможность публично высказываться. («У меня нет времени на зло. Хватило бы на добро», – нередко говорит он.) Более того, в своей книге, объективно оценивая личность Иогансона как педагога-наставника, Илья Сергеевич приводит обширный фрагмент из доклада Бориса Владимировича в 1957 году на VIII сессии Академии художеств СССР, посвященного задачам воспитания молодых художников, забытого, но чрезвычайно актуального и для сегодняшнего дня. В докладе говорилось не только о специфических методах преподавания, использовавшихся в Московском училище, о своем понимании основных принципов живописи, Иогансон рассказывал и о практических уроках Коровина, во время которых открывались секреты художнического мастерства. Формулировал он и обобщающие выводы, касающиеся искусства в целом. Говоря, например, о замысле художника, одержимого даже благим намерением лишь удивить мир, заключает: «Искусство не выносит, когда к нему подходят с корыстным расчетом, муза живописи отвечает художнику взаимностью только при бесконечной любви к ней и к истине законов ее природы». (Как это созвучно было мыслям молодого Глазунова!) Или другое размышление, в связи с рассказом об одном из уроков Головина, который, переписав неудачный этюд ученицы и неожиданно соскоблив мастихином написанное им, изрек: «А вот теперь пишите сами». «Этот рассказ я привел к тому, чтобы не думали «таланты», что живопись – «наитие», «вдохновение», «неведомое» и т. д. Вдохновение-то вдохновением, но под ним лежит ремесло, школа, метод».
На той же позиции стоит и Илья Глазунов в своей академии, категорически отвергая всякие способы дикого непрофессионального «самовыражения», захлестнувшие сейчас так называемое современное искусство.
Мировоззрение, эстетические взгляды студентов формировались не только в общении с педагогами академии, но и в спорах между собой. Тогда же все резче обозначалось расслоение по убеждениям. Одни творили опусы в ключе соцреализма, другие стремились противостоять лжи, заложенной в марксистской доктрине, третьи искали себя на пути самовыражения, избрав в кумиры Кандинского, Малевича, Татлина.
Размышления Глазунова о спорах той поры: «Всех художников, независимо от величин, делю на «изобразителей» и «выразителей». Выразители не пассивно отражают мир (хотя «изобразители» могут достичь в этом отражении высочайшего мастерства и гармонии), а несут в себе некий Прометеев огонь, преображают мир высотой своих духовных идеалов, борением духа. Веласкес, Репин, Франс Хальс, малые голландцы, Клод Моне – гениальные «изобразители». А. Рублева, Врубеля, Эль Греко, Рериха я считаю выразителями глубочайших переживаний человеческого духа, раскрытого индивидуально, в конкретных формах объективно существующего мира. Одни творят характеры и типажи, а другие – философские мыслеобразы, выражающие нравственные, социальные и эстетические категории. Здесь формы внешнего мира служат для выражения мира внутреннего. Дух, по-моему, всегда национален, как национально понятие о красоте. История доказала, что чем более национален художник, тем он и более интернационален в высшем смысле этого слова. Разве не свое понимание красоты и гармонии мира у Эль Греко, Хонусаи, Рубенса, Врубеля? Интернационального искусства не существует, есть только национальное искусство».