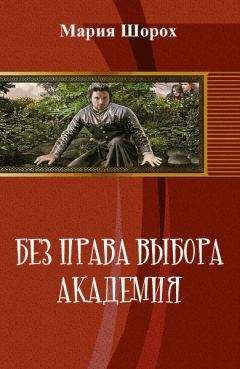Адель Алексеева - Солнце в день морозный (Кустодиев)
"…Теперь я, кажется, переживаю самое лучшез время в своей жизни, столько хорошего кругом, столько хороших надежд на будущее и столько чудных воспоминаний!"
"…Вот я сейчас смотрю на твою карточку и опять вижу твои глаза с огоньком и такую тихую, твою улыбку — у тебя удивительно хорошеет лицо, когда ты улыбаешься".
"…И чем больше я тебя вспоминаю, тем больше тебя люблю, и мне все кажется, что я недостаточно с тобой был внимательным и мало окружал тебя своей заботливостью. Прости меня, но мне так бы хотелось сделать для тебя все, что ты ни захочешь… Буду около тебя стоять и ждать приказаний от своей повелительницы".
Как неуверен он был в себе, как хотел возвысить ее и обвинить себя в пустяковых размолвках!
"…Как часто я был не прав, и ты прощала меня, а я этого часто не заслуживал. Из-за пустого каприза, из-за того, чтобы не дать тебе верха в споре…" "Яне могу быть долго один — я себя ненавижу… Вот почему мне так больно слышать каждый раз, когда ты называешь меня хорошим… Успокоила бы меня твоя улыбка от всех копаний в душе, от меня самого бы меня отвлекла".
Он был внимателен, но работа уже тогда стала ее соперницей. Она уговаривала не ехать на этюды — он ехал. Она просила вдвоем посидеть дома он звал гостей. Говорил, что ему лучше работается в их окружении, что ему нужен разговор. После ее упреков он чувствовал себя виноватым, просил прощения.
Письма его всегда подробные, милые, «улыбчивые». Часто он рисовал в письмах веселые сценки. Вот в академии: студент бежит за «натурой», у той только "пятки сверкают", она показывает ему растопыренные пальцы, а сзади академическое начальство удерживает студента за фалды. Любил себя изображать: то на коньках летит по льду, то в огромных валенках примерзает к земле, делая этюд с натуры на тридцатиградусном морозе…
Юлия Евстафьевна вздохнула. В раздумье снова вложила письма в шкатулку. Вышла из комнаты.
Улыбка уже не сходила с ее лица ни тогда, когда она надевала шляпку перед зеркалом, ни когда ждала трамвая на людном шумном перекрестке, ни когда подходил к перрону московский поезд, в котором возвращался ее муж.
Тем труднее стала для нее та минута, когда она вошла в купе и увидела, с каким трудом Борис Михайлович поднимается с сиденья. Он опирался на две палки, и лицо его было искажено гримасой боли.
Часть третья
Операция
Хирург Лев Андреевич Стуккей, худощавый мужчина среднего роста, перелистывал историю болезни.
…Борис Михайлович Кустодиев… 38 лет. Художник. В течение 7–8 лет беспокоят боли то в верхней части позвоночника, то в руке. Три года назад сделана операция в Берлине в клинике знаменитого Оппенгей-ма. Через год должна была пройти вторая операция в той же клинике Оппенгейма. Однако война отрезала больного от профессора. Болезнь обострилась, стала приобретать более тяжелую форму. На днях собирался консилиум, и решено оперировать.
Профессор Стуккей должен пойти к больному и сказать, что операция назначена на понедельник.
С неясным ощущением тревоги посмотрел он в окно. По Фонтанке спешили буксиры, лодки. Пять дней назад хирург делал операцию одной еще нестарой женщине. Запущенная болезнь. Плохое сердце. Не было почти никакой надежды на благополучный исход. Такие операции называют операциями отчаяния. И все же после ее смерти его не покидает чувство вины, словно это он чего-то не успел, что-то не довел до конца… К счастью, Кустодиев в отдельной палате, он ничего об этом не знает.
Надо преодолеть барьер сомнений. Хирург не имеет права на слабость. Он должен внушать уверенность больному тогда, когда ее нет даже у самого врача, веру в важность его скальпеля. Хирург всесилен, он почти божество. Итак, смелее!
Палаты частной клиники Цейдлера светлы, почти нарядны. Сквозь кремовые занавески проникает мягкий свет.
Сестры милосердия в хрустящих, как бумага, косынках с красными крестиками бесшумно двигаются по коридору. В большой палате лежит Кустодиев.
— Здравствуйте, Борис Михайлович! — Доктор широко распахнул дверь его палаты.
На окне стояли распустившаяся верба и ветки ольхи с красноватыми шишечками. Рядом первые цветы. Косое солнце слегка подсвечивало их.
Последовали обычные вопросы о самочувствии, несколько слов о новостях с фронта, о погоде. И вдруг:
— На понедельник назначим операяию… — Легкая вопросительная интонация, пауза, и тут же, словно сказанное не было самым главным, доктор спросил: — Читаете Леонида Андреева? Нэ люблю, знаете. Не одэ-бряю. Когда имеешь дело с болезнями, с жизнью, пе кажутся серьезными его пугающие рассуждения. А что, может быть, я ошибаюсь?.. Одолжите в таком случае мне Андреева на два дня. Попробую все же еще раз почитать. — Он не хотел оставлять больного перед one рацией с этой книгой. — Кстати, когда придет ваша жена?
— С минуты на минуту.
— Я надеюсь, она зайдет ко мне?..
Больше они друг другу не говорили ничего о том самом главном, что их ждало, — об операции. А возможны были два исхода: либо больной сможет в какой-то степени передвигаться, либо произойдет паралич конечностей, и тогда полная инвалидность.
Борис Михайлович читал книги, говорил совсем на другие темы, не о болезни, даже шутил.
В день операции, когда его положили на каталку, он усмехнулся: "Королевские почести!" Каталку везли две сестры с непроницаемыми, строгими лицами.
…В ледяной тишине операционной каждый звук — от скальпеля, зажима, ножниц — холодной каплей падает на спину. Слова как шифр:
— Маска… Эфир…
В последнюю минуту Кустодиев успевает схватить взглядом лицо только что появившегося Стуккея — брови над белой марлевой повязкой, ободряюще-серьезные глаза.
И вот уже маска давит на лицо. Звуки уходят дальше. Раз, два, три, четыре… Затылком чувствует он черную яму. Восемь, девять, десять… восемнадцать… двадцать четыре… Мир без времени и измерений. Ни болей, ни воспоминаний.
В течение пяти часов он был под наркозом. В течение пяти часов его жена ходила по коридору, комкая в руке платок, не слушая уговоров. Из операционной к ней вышел врач и сказал, что обнаружена опухоль в спинном мозге. Возможно, придется решать, что сохранить больному — руки или ноги?
Бледное лицо Юлии Евстафьевны еще больше побледнело, в глазах на мгновение блеснули слезы.
— Руки, ну конечно, руки!
К вечеру мучительно отошел наркоз. И обнажилась боль. Свежие раны, как ножи, торчали в спине, боль распространялась на шею, руки, голову — на все тело. В окно слабо пробивался закат… Красное пятно солнца на белом небе, как кровь на марле.