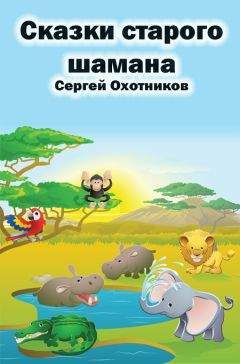Сергей Михалков - Два брата - две судьбы
Хорошо-то хорошо… Но ведь как кому… За что мой брат попал в каменную ловушку лефортовского узилища? Ему всего двадцать три… Миша всегда презирал опасность, был азартным, любил экстремальные ситуации.
Много-много лет спустя выйдут сборники его стихов. И там будет такое четверостишие, которое не сочинить на холодную голову, от нечего делать. Называется оно «Смерть связиста»:
Гудел металлический овод,
А в поле, в горячих хлебах,
Работал разорванный провод
В его посиневших губах…
Позже, много позже выйдет в свет автобиографическая повесть Михаила «В лабиринтах смертельного риска», откуда не только читатели, но и мы, родные, узнаем, наконец, подробности его весьма неординарной военной биографии. Здесь же — такие точные зарисовки тех непростых, нешуточных дней. Вот эпизод попытки выскочить из окружения:
«— Левее, левее! — говорю я.
— Правее! Резко правее! — обрывает меня командир. Колонна ушла вправо.
— Надо было левее, — сказал я. — Мы еще до двух тополей не доехали.
— Правильно едем! — настаивает командир. — Правее бери! Скоро должна быть дорога…
Глухо урча моторами, машины шли без огней, через большое поле, прямо по целине.
— Стоп! — скомандовал командир и вышел из машины. — Вытянуться цепочкой всем, кроме раненых, — приказал он. — И следовать друг за другом на расстоянии видимости. Двинулись! — И сам пошел первым.
Мы проплутали зря. Цепь разорвалась. Спустя некоторое время вынуждены были вернуться к машинам. Начальник ругался площадной бранью, обвинял в неудаче всех, кроме себя.
— А ты вали отсюда к чертовой матери! — неожиданно выпалил он и, повернувшись по мне спиной, сел в машину.
Я соскочил с подножки и, уязвленный незаслуженной грубостью, забрался в кузов продовольственной машины и улегся рядом с поваром-грузином под брезентом на мешке с мукой.
Машины некоторое время еще двигались, а затем снова остановились.
— Разведчик! Разведчик! Где он там? — послышались голоса.
— По твою душу, — улыбнулся грузин.
— Разведчика к командиру!
И я снова стою на подножке и снова показываю дорогу. Некоторое время едем молча.
— Где же твои тополя? Нет их нигде! — злится командир. — Пошел вон!
Меня прогнали и опять вызвали. И так несколько раз. В кромешной тьме машины ехали неизвестно куда, и только с рассветом, проплутав всю ночь по полям, мы наконец выбрались на грунтовую дорогу и помчались вперед, ощетинившись винтовками. Возле маленького полустанка колонна попала под вражеский обстрел и, на ходу приняв бой, распалась. Машина с продовольствием, на которой я ехал, очутилась совсем одна в небольшой березовой рощице, на окраине местечка Зеленая. В селе были немцы. Винтовки мы закопали в рощице — кончились боеприпасы, продукты передали хозяевам крайнего дома, рядом с которым мы оказались и где довольно искусно большими зелеными ветками замаскировали машину.
Командир в кожаном ремне не был виноват, что от нас ушли другие командиры и конный взвод ночью запропастился неизвестно куда. Надо было не ругаться с ними, а посоветоваться. А он хотел все делать сам, хотя в ночной темноте ориентироваться не мог. Всех обругал, всех разогнал, и из-за его безалаберных команд рассеялись остатки штаба этого соединения.
Что делать? Той же ночью мы с поваром и с двумя бойцами двинулись по направлению к Николаеву. Один из бойцов был мой бывший напарник по разведке, узбек. В ближайшем же селе от нас отстал повар-грузин, он был очень толстый мужчина, шагать пешком для него было страшной мукой. Потом куда-то пропал второй боец. Остались мы с узбеком вдвоем. А вскоре я и его потерял, и вот при каких обстоятельствах. Напоролись мы на немцев. Спали они в придорожном кювете — рядом лежал на боку мотоцикл без колеса, а несколько в стороне — их танкетка без гусениц. Мой напарник решил прикончить их финкой. Как только мы обсудили план действий, со стороны танкетки раздался окрик — нас заметили, и тут же резанула автоматная очередь. Немцы вскочили с земли, и нас обоих как ветром сдуло: разбежались в разные стороны и растворились в темноте… Остался опять один. На рассвете заметил стог сена и направился к нему. Приземлился на чей-то сапог. Кто-то выругался, и из-под стога выбрался черноволосый мужчина в немецкой фуфайке, за ним — второй, белобрысый парень. Оба без оружия, и у меня оружия не было (командир в реглане отобрал ТТ, когда я уходил в разведку, да так и не вернул). Не успели мы и слова сказать друг другу, как перед нами, словно из-под земли, вырос верховой немец.
— Лос! Пошоль! — Дуло его автомата прочертило полукруг, указывая нам путь…
Все произошло в один миг — и вот под конвоем верхового немца мы следуем в село, к дому с мезонином, над крышей которого развевается фашистский флаг. Нас вводят в помещение. Обыскивают. Появляется офицер.
— Зольдат? — обращается он ко мне.
— Нет.
— Зольдат? — обращается он к белобрысому парню. Тот молчит, словно воды в рот набрал. Офицер подходит к черноволосому:
— Юде? (Еврей?)
Тот не понимает вопроса. Он грузин. Офицер бьет его по лицу:
— Цап-царап! Немецкий! — говорит он, тыча стеком в фуфайку, и, повернувшись к фельдфебелю, добавляет: — Erschiessen![4]
— Zu Befehl![5] — вытягивается в струнку пожилой фельдфебель.
Нас троих выводят наружу. Улица пустынна. В домах словно все вымерло. Две винтовки наперевес: одна — впереди, другая — позади. За плетнем стоит босая женщина в белой косынке. Маленький испуганный мальчонка держится за ее подол. Мы поравнялись.
— Матка, лопат, копат! — кричит немец.
Женщина не понимает. Тогда немец жестом показывает, что ему надо. Женщина уходит и выносит из сарая три лопаты. Идем дальше… Миновав село, выходим на картофельное поле. Один немец очерчивает палкой продолговатый квадрат, другой передает нам лопаты. Оба немца отходят в сторону. Мы начинаем рыть землю.
Стоя в стороне, в трех шагах от нас, каратели с холодным равнодушием глядят, как наши лопаты врезаются в рыхлый украинский чернозем, выбрасывают комья земли вместе с картофелинами и, порой разрезая их, обнажают белую, сверкающую влагой сердцевину… Ах, до чего же крупна и хороша эта украинская картошка!
Яма под нами становится все глубже, мы уже в ней по колено. Немец показывает, чтобы копали не вширь, а вглубь…
— Бистро! Бистро! — приговаривает он.
— Могилу для себя роем, расстреливать будут, — шепчу я грузину.
В черных блестящих глазах под густыми бровями я вижу, как вспыхивает его ненависть, как задвигались давно не бритые скулы, сжались крепкие челюсти.