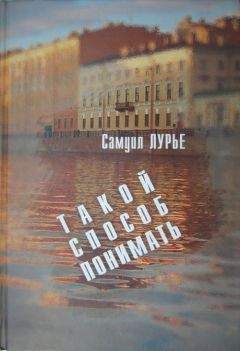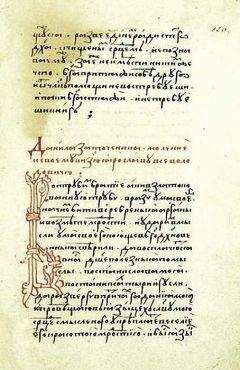Самуил Лурье - Литератор Писарев
И она приехала!
«Наконец я живу полной жизнью, вижу всех, к кому наиболее расположен, и дышу так весело, так свободно, что страшно становится за свое счастье».
Она приехала и прожила в Грунце весь июль и август, и Мите этим летом жилось так светло, точно его никогда и не увозили в Петербург, в гимназию, точно и не было того зимнего дня и прошлой осени тоже, а университет и больница ему приснились на садовой скамье, но вот он очнулся в ужасе и слезах, — а Раиса тут и говорит, что никуда не уходила.
Она выговаривала ему — как мог он до такой степени отчаяться и поверить взрослым, что она его забыла, как он смел заболеть. Он оправдывался, подробно разбирая ход своей болезни: тут ведь было не одно отчаянье, а целый строй новых мыслей. Она рассказывала, как скучала в Истленеве — и хоть бы письмо (так, значит, их перехватывали, — ай да дяденька!), а Митя, стараясь ее рассмешить, в лицах изображал пациентов доктора Штейна. Она привезла с собою июньскую книжку «Русского вестника», и там была ее повесть, да, да, Р. Коренева тоже теперь пишет в журналах, и другому таланту нашей семьи, Марку Вовчку, придется спустить перед нею знамя. Митя прочел домашним эту повесть — «Пустушково» — дважды, восторгался каждой сценой, растолковывал сестрам прелесть и новизну сюжета и горько обижался на родителей и Сергея Ивановича за то, что те поддакивали без воодушевления.
В Пустушкове всякий мог узнать Грунец, а в искренней и решительной героине повести Лизе — Раизу. Был там и некий мальчик, Саша, Лизин сводный брат, — хороший, добрый, чувствительный мальчик, но неженка, бесхарактерный, совсем еще ребенок, несмотря на свои шестнадцать, что ли, лет.
И вот родители этого Саши нанимают для него домашнего учителя — московского студента Рагодина, и бедный студент влюбляется в сестру своего ученика. После двух-трех чувствительных сцен в Пустушкове и в Москве, где Лиза томится в светских гостиных, герои решают пожениться, смело признаются в этом Лизиному отцу и рука об руку устремляются вдвоем навстречу будущему. Финал казался Мите особенно грациозным:
«А карета катилась все далее и далее, унося далеко от Пустушкова вполне счастливых людей. Но что встретит этих людей за отдаленным горизонтом, куда так быстро мчат их добрые кони? Найдут ли они в свете приют и радушие? Гордые собственными силами и взаимною любовью, они покуда так поглощены друг другом, что все остальное кажется им совершенно чуждым».
Варвара Дмитриевна втихомолку полагала, что тут не обошлось без ее невозможного братца. Он, Андрей Дмитриевич, этот самый Рагодин и есть, только представлен лет на пятнадцать моложе. Он и повесть устроил в «Русский вестник». Мало ему, что поссорил сына с родителями, еще и молодой девице вскружил голову неприличными бреднями. Не зря Варвара Дмитриевна отказала ему от дома.
Но Митя узнал в Рагодине себя и торжественно заявил, что будет пользоваться этой фамилией как псевдонимом.
Наконец-то мечта его исполнилась: он мог работать подле Раисы, в одной комнате с нею. По утрам он садился переводить гейневского «Атта Тролля», а она приходила к нему сочинять новую повесть. Больше ему нечего было желать. Как ласков был он теперь с матерью, как внимателен к Вере, как весел с Катей, как почтителен с отцом! Будущее не беспокоило его нисколько, и то, что Кремпин ни словом не отзывается на посланную ему статью, а Леонид Майков не присылает книг, необходимых для диссертации, и вообще письма из Петербурга прекратились, даже от Трескина ни строчки, — все это были пустяки. Он тоже никому не писал с тех пор, как приехала Раиса.
Но вот она сама стала выказывать нетерпение и упрекать его за благодушную беспечность — а ведь диссертацию надо представить к Новому году, — и, опустив голову, он увидел вдруг, что аллея почти сплошь устлана свинцовой листвой, из-под которой сырой песок выглядывает разводами. Сентябрь снова наступил.
О, конечно, расстались не тотчас. Еще съездили в Хмырово — имение Раисиного батюшки; еще пожили в Москве, в меблированных комнатах, и Петр Гарднер — он выздоровел и оказался добрейшим малым — приводил к ним в гости своих товарищей-студентов. Еще много было выпито шампанского и дано обещаний, но в конце сентября Писареву все же пришлось войти в вагон петербургского поезда и через окошко по движениям губ угадывать, что утешительного говорит ему на прощанье его невеста. Раиса оставалась в Москве — ждать, пока он закончит университет и, обеспечив себе прочное положение, вернется за нею. Но Писарев твердо решил, что увидится с нею раньше, что с нею вместе в Москве встретит Новый год.
К Трескиным он не поехал. В этой семье видели его болезнь и унижение, весною с ним обращались так, будто он с цепи сорвался, и всячески старались уберечь от него обожаемого Коленьку. Писарев предпочел остановиться у дальнего и малознакомого родственника по фамилии Алеев. Едва отдохнув с дороги, отправился в гости к Майкову, хотя, по правде говоря, ни с кем из бывших товарищей видеться не хотелось. У Леонида сидел Скабичевский. Писарева они встретили радостно, с шутливыми восклицаниями, но расспрашивали его осторожно и о себе рассказывали с какой-то нарочитой скромностью, стараясь не задеть его самолюбия тем, что он все еще студент, а они… Майков вышел кандидатом и оставлен был при университете. Скабичевскому, тому действительно хвастать было нечем: грошовые уроки да десятирублевое жалованье в канцелярии генерал-губернатора; пьесу написал — забраковала театральная цензура; словом, совсем бы плохо пришлось, кабы не Кремпин с его журнальчиком…
— Ах, вот что! Стало быть, ты теперь пишешь в «Рассвете»?
— А разве ты не знал? Пишу, брат, — от случая к случаю. Вот недавно статейку тиснул — о «Накануне» тургеневском. Небольшая такая статейка, — с несчастным лицом бормотал Скабичевский.
— Кстати, — перебил Майков, — говорят, что Тургенев порвал с «Современником», а за ним Григорович и граф Лев Толстой. Вот, я думаю, удар для Некрасова! Теперь подписка непременно упадет. А тут еще Герцен в «Колоколе» на его счет так оскорбительно прошелся…
Потом говорили о том, как похорошел Петербург: нет больше на улицах полосатых будок — да уж, во второй половине девятнадцатого века будочники с алебардами чистейший анахронизм, — а на Невском фонари теперь газовые… Потом Скабичевский ушел — его ждали где-то еще, — и Майков, принуждая себя глядеть Писареву прямо в глаза, стал объяснять, что переводы из Гейне, присланные летом, не удалось пристроить нигде, хотя они вовсе не так уж плохи. Он говорил участливо и тихо, а Писарев назло ему громко смеялся и уверял, что это все равно, что переводил единственно для пробы пера; деньги, правда, нужны, но он знает более верные и почтенные способы их заработать. Расстались холодно.