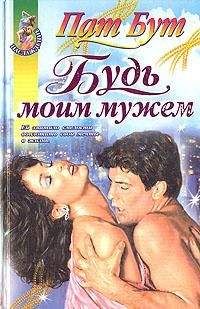Николай Ашукин - Брюсов
Валерий Брюсов станет премьером в поэтическом хоре новой России, как первым, как душой, он стал в маленьком юном нашем литературном кружке на Цветном бульваре. <…>
Кто был в Кружке? Гимназисты, школьники, ученики. Из студенчества — двое-трое. С литературой спаяли себя потом совсем немногие: Брюсов, я и еще Миропольский, автор «Лествицы»… Кружок менялся. В него приходили новые, его покидали прежние, но неизменным оставался одни Брюсов. Отсюда вышло русское «декадентство», здесь начались его сборники, сюда посыпались удары нападающих и полетели камни врагов. Редактором, основоположников, головой, душой был и остался все он же, Валерий Брюсов (Пильский П. С. 24, 26).
Под именем символизма и декадентства разумеется новый род не столько поэзии, сколько стихотворческого искусства, чрезвычайно резко отделяющийся по форме и содержанию от всех когда-либо возникавших видов литературной творчества <…> То, что есть в содержании символизма бесспорного и понятного — это общее тяготение его к эротизму. <…> Эрос не одет здесь более поэзией, не затуманен, не скрыт <…> Женщина не только без образа, но и всегда без имени фигурирует обычно в этой «поэзии», где голова в объекте изображаемом играет столь же ничтожную роль, как у субъекта изображающего; как это, например, видно в следующем классическом по своей краткости стихотворении, исчерпываемом одной строкою:
О, закрой свои бледные ноги!
Угол зрения на человека и, кажется, на все человеческие отношения, т. е. на самую жизнь, здесь открывается не сверху, идет не от лица, проникнут не смыслом, но поднимается откуда-то снизу, от ног, и проникнут ощущениями и желаниями, ничего общего со смыслом не имеющими. <…> Нет причин думать, чтобы декадентство — очевидно, историческое явление великой необходимости и смысла — ограничилось поэзией. Мы должны ожидать, в более или менее отдаленном будущем, декадентства философии и, наконец, декадентства морали, политики, бытовых форм (Розанов В. С. 128-130).
В далекой глуши, в г. Мерве Закаспийской области, штабс-капитан Глаголев в 1895 году переводит Верлена, Метерлинка, Мореаса и запрашивает Брюсова о возможности напечатать свои переводы. К сожалению, сами эти переводы в Брюсовском архиве отсутствуют. Но тот факт, что <…> безвестный штабс-капитан не только читает, но и переводит никому тогда в России неизвестного Мореаса, показателен сам по себе: он свидетельствует лишний раз об органичности и своевременности литературного выступления московских символистов (Гудзий Н. С. 217).
По правде сказать, весь этот шум поднятый критиками, конечно, в общем «маленький», но достаточный для юноши, которого еще вчера никто не знал, меня прежде всего изумил. В своих напечатанных стихах (в I вып. «Символистов») я не видел ничего особенно изумительного или хотя бы странного: многие из этих стихотворений были написаны мною под влиянием совсем не «символистов», а например (как верно указал Вл. Соловьев) Гейне. Я с наивностью думал, что можно быть «символистом», продолжая дело предшествующих русских поэтов. Критики объяснили мне, что этого нельзя. Они насильно навязали мне роль вождя новой школы, maitre de l’ecole, школы русских символистов, которой на самом деле и не существовало тогда вовсе, так как те пять-шесть юношей, которые вместе со мной участвовали в «Русских символистах» (за исключением разве одного А. Л. Миропольского), относились к своему делу и к своим стихам очень несерьезно. То были люди, более или менее случайно попытавшие свои силы в поэзии, и многие из них вскоре просто бросили писать стихи. Таким образом я оказался вождем без войска…
Со мной не хотели считаться иначе как с «символистом»: я постарался стать им, — тем, чего от меня хотели. В двух выпусках «Русских Символистов», которые я редактировал, я постарался дать образцы всех форм «новой поэзии», с какими сам успел познакомиться: vers libre, словесную инструментовку, парнасскую четкость, намеренное затемнение смысла в духе Малларме, мальчишескую развязность Рембо, щегольство редкими словами на манер Л.Тайада [60] и т.п., вплоть до «знаменитого» своего «одностишия», а рядом с этим — переводы-образцы всех виднейших французских символистов. Кто захочет пересмотреть две тоненькие брошюрки «Русских Символистов», тот, конечно, увидит в них этот сознательный подбор образцов, делающий из них как бы маленькую хрестоматию. Свой план я думал закончить в IV-м выпуске, для которого заготовил переводы Верхарна, Вьеле-Гриффена [61], Анри де Ренье и др. Но этому IV-му выпуску не суждено было появиться по причине, которую легко угадать: по недостатку средств даже на издание тоненькой брошюрки (Автобиография. С. 109, 110).
Несмотря на грубое декадентство и почти сплошное подражание поэтам Запада, интересен самый факт появления трех книжек «Русских Символистов». Это был своего рода трубный глас, постепенно возраставший crescendo – от него впоследствии упали иерихонские стены старой поэзии (Поярков Н . С. 5).
В эпоху оскудения и стихийного торжества пошлости, когда все живое в России было задавлено гнетом охранения когда не было у нас жизни, а было мирное житие, в дни удручающего упадка литературы, когда нам с одной сторона преподносили надоевшие клише «идейной беллетристики», а с другой — жалобные звуки только что отзвучавшей Надсона смешивались с холодными и фальшиво надменными звуками «сознательных стихотворений», в дни апофеоза чеховских персонажей и удручающего стеснения мысли, когда все было пошло, мелко, ничтожно и скучно — появилась вдруг яркая ересь. Пришли какие-то люди до сих пор неизвестные, стали писать о вещах, о которых нельзя было и, казалось, не нужно было писать, и таким языком, какого до тех пор не слыхали в юдоли толстых журналов.
Чувствовалась огромная дерзость: люди давно отвыкли и давно привыкли молчать, а эти странные «мальчики» осмеливались быть свободными. В их бурных песнях, казавшихся такими дикими, звучали трепеты пробужденного тела, радующегося жизни, порывы в неизведанные дали, где могут быть опасности, непосильные для добрых филистеров, святотатственные дерзновения, неоглядывающаяся насмешка над тем, что весьма воспрещается…
Сначала, встречая в печати эти новые произведения, такие странные, изысканные, подчас неудобопонятные, экзотически причудливые, вызывающе резко звучавшие под нашим северным небом, подобные невиданным орхидеям, вдруг выросшим на почве, где до того произрастала лишь картошка да капуста, вообще хлеб насущный, — литературный обыватель только отфыркивался: какая странная штука!.. Стихи, точно, были странные… В литературе же 90-х годов прошлого столетия (беря всю ее совокупность, а не только отдельные течения) мы замечаем… нарастание индивидуального протеста, — не теоретического, книжного протеста гражданской литературы, а, именно, протеста органического, протеста самой личности, задавленной жизнью. По моему мнению, в литературе этой эпохи (опять-таки во всей совокупности ее, от М. Горького с его «Буревестником» до В. Брюсова), можно даже без особой натяжки найти черты, родственные немецкому Sturm und Drang Period'y, основной идеей которого была борьба за права личности (Ардов Т . С. 8—13).