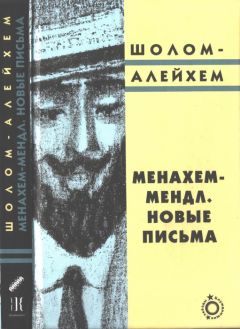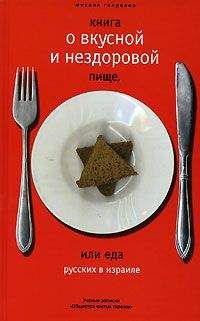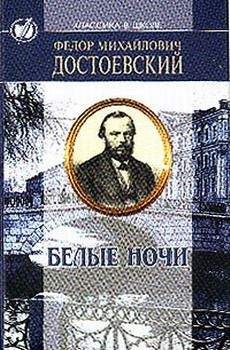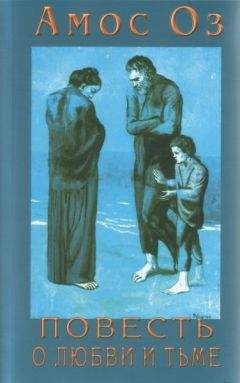Менахем Бегин - В белые ночи
Быть может, они действительно восстали против правителей своих стран, убедившись в порочности избранного ныне пути, разочаровались в коммунистических порядках и повели борьбу за другой режим; или, оставаясь коммунистами, они вступили в борьбу за «подлинный коммунизм», каким себе представляли его в мечтах молодости; но почему тогда они не заявляют о своей вере, о своих устремлениях? Ведь большинство из них старые опытные революционеры, для которых тюрьма, скамья подсудимых, пытки и смертельный риск не представляют ничего нового. Революционной борьбе они обучались не заочно, а прошли университеты подполья, преследований и страданий. Не раз сталкивались лицом к лицу со следователями, судьями, палачами, но не склонили головы, не просили пощады — они продолжали борьбу за свои идеи. Что же произошло с этими людьми теперь, когда им пришлось столкнуться лицом к лицу со следователем-чекистом, советским прокурором, красным палачом? Почему их признания не сопровождаются открытым, гордым, достойным борцов за идею, заявлением: «Правда на нашей стороне»?
Если верен другой вариант и обвиняемые — жертвы инспирированного заговора, не совершившие никаких действий против правительств своих стран, то почему их покинул инстинкт самосохранения? Разве так ведут себя люди перед лицом смертельной опасности? Почему даже в последний момент они не кричат: «Мы не виновны!»?
История революций и войн — гражданских и национально-освободительных — знает немало людей, отдавших жизнь за идею, и не меньше людей, поступившихся идеей для спасения жизни. Но на советских процессах обвиняемые отрекаются от идеи и одновременно отказываются от жизни. И мир удивляется: что заставило их пойти на двойную жертву? Это не единственный и не последний вопрос, возникающий при виде поразительных зрелищ, поставленных в тридцатых годах в Москве, в сороковых — в Софии и в пятидесятых — в Праге… Можно спросить: какова политическая цель режиссеров, потребовавших от своих жертв отказа от воли и жизни еще до того как милосердный кусок свинца оборвет их дыхание? Ответить нетрудно. Заправилы советского режима тоже прошли университеты идейно-революционной борьбы. Они знают, что одним из важных моральных факторов в войне между «слабыми» носителями идеи и «сильными» обладателями власти является ореол мученичества, достающийся преследуемым, отдающим жизнь ради идеи. Благодаря этому ореолу страдания еврейство устояло и сохранилось в веках, а христианство из преследуемой касты превратилось в мировую религию. Благодаря этому кровавому нимбу идея свободы побеждала угнетателей на всех континентах и во все эпохи; готовностью к самопожертвованию, своею кровью еврейские повстанцы сумели в наши дни одолеть британских оккупантов с их военной мощью. Кровь борцов за идею — это жизненные соки самой идеи. Советские правители знают это не из теории, а из собственного опыта. Оттого они никогда не допустят никакого геройства, никаких пламенных речей с трибуны открытого судебного процесса; суд, насколько это возможно, призван снять ореол идейного мученичества с чела обвиняемых.
Как смеялся надо мной в комнате дознаний майор НКВД: «Суд! Дай ему трибуну!» Этот смех открыл мне принцип всей системы следствия и судопроизводства НКВД: трибуны никакой нет! Перед обвиняемым выбор: либо суд с идейной смертью, либо физическая смерть без суда.
Другой вопрос: из какого духовного источника почерпнули кремлевские руководители мысль о необходимости покаянной исповеди обвиняемых? Дело в том, что любая единоличная власть в той или иной мере патрональна, то есть наделена «комплексом отцовства» — как в положительном, так и в отрицательном смысле. Диктатор — отец, граждане — дети. Диктатор-отец заботится о детях, если они хорошие, и карает их, если они плохие. «Комплекс отцовства» советская власть распространила не только на политическую, но и на экономическую жизнь страны: диктатор-отец является одновременно отцом-кормильцем. Отец, как известно, не довольствуется наказанием виновного сына: он требует признания ошибки, раскаяния, просьбы о прощении. Если «отцовский комплекс» диктатуры достиг в Советском Союзе наивысшей силы, то и противоположный, дополняющий его «комплекс инфантильности» граждан тоже развился максимально, и «плохие дети» лобзают наказующую руку «отца». Это утверждение хотя и верно, но все же недостаточно, чтобы объяснить покаянные «исповеди» людей, в прошлом не только закаленных в суровых испытаниях, но и бывших долгое время руководителями, зачастую очень жестокими.
Действительно, поведение обвиняемых на процессах в Советском Союзе выходит далеко за рамки, понятные обычному человеческому уму. Неудивительно, что неискушенные наблюдатели в стремлении проникнуть в суть происходящего предполагают здесь загадку и выдвигают версию об уколах, известных только «медицине НКВД». Такую возможность должны, разумеется, учесть западные ученые. Но и самый простой, необразованный человек задаст вопрос: неужели возможны инъекции, заставляющие людей вспоминать имена, цифры, произносить многочасовые речи — и все это вопреки внутренней правде, скрытой в подсознании? Существуют препараты, ослабляющие волю человека и лишающие его способности скрыть правду. Но неужели существует и «укол лжи»? Стоит задать этот вопрос, как напрашивается вывод: в признаниях обвиняемых есть много ужасного, но ничего таинственного нет.
Предположение, что обычные способы давления вроде побоев или пыток не являются решающим фактором в получении «признаний», наверняка вызовет утверждение, что мой личный опыт, приобретенный во время допросов, недостаточен, неполон. Это правда. Меня не пытали, не били. Мне только угрожали в управлении НКВД и в Лукишках «другими средствами», которые заставят меня согласиться с мнением следователя, но эти угрозы так и не были выполнены. Могу привести дополнительные свидетельства в пользу НКВД. В тюрьме и в бараках «исправительного» лагеря мне пришлось беседовать с сотнями заключенных. Никого из них не били и не пытали. Кто-то, правда, слышал, что следователи избили нескольких польских офицеров. Польский капитан, мой сокамерник, рассказывал, что во время одного из допросов следователь поднес пистолет к его носу и сказал: «Понюхай — поймешь, что тебя ждет». Холод металла вызвал неприятное чувство. Но и капитана никто не бил.
Возможно, обитателям Лукишек того периода повезло. Мы попали в тюрьму в период массовых арестов. Проводилась не особая, а обычная чистка: Литва два десятилетия находилась вне советского влияния, Красная армия осуществила «июньский переворот», и вслед за этим стражи революции произвели «профилактику». Тогда не готовились показательные процессы, и аресты должны были просто снять «подозрительную прослойку» из людей всех национальностей, всех общественных групп. Интеллигенты, военные, научные работники, политические деятели, в том числе коммунисты и их адвокаты, должны были исчезнуть бесшумно, по решению Особого совещания, заседавшего «где-то в Москве».