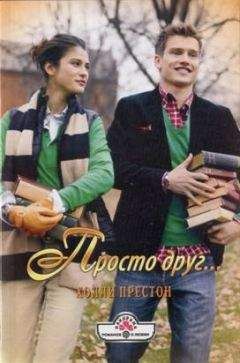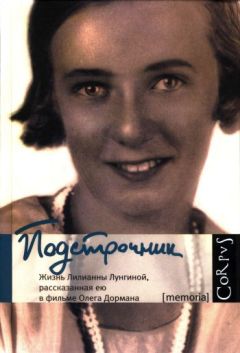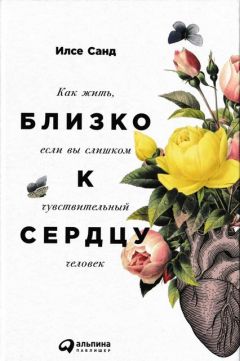Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
А Метека Вайнберга, которого Д. Д. очень любил и потом посвятил ему Десятый квартет, вообще посадили: Метек был польский еврей. Он приехал в СССР, когда немцы вошли в Польшу.
Антисемитизм на государственном уровне возник, как ни странно, во время войны. Помню, замдиректора консерватории вернулся из Москвы в Ташкент и сказал: «Для евреев наступают черные дни». Вспыхнула эта чума в армии, а потом разошлась повсеместно. Правда, поначалу Сталин рассчитывал, что Израиль станет его форпостом, как Польша или Чехословакия, и приветствовал создание еврейского государства на Ближнем Востоке. Советские евреи понадеялись, что пронесет. Но израильские коммунисты оказались в большей степени сионистами, чем коммунистами. Сталин предал их анафеме, и в последние годы его жизни антисемитизм захлестнул страну. Это была страшная эпоха. Помню, как Цейтлин, многое к тому времени понявший, сказал при всех в консерватории: «Если они теперь настолько против евреев, то должны всем евреям выдать выездные визы в Израиль». Сам он, конечно, никуда в жизни бы не уехал. Он не покинул Россию и в более страшные времена. Но ему оставалось недолго. В первые дни пятьдесят второго года Льва Моисеевича не стало.
Николай Семенович Голованов пришел на его похороны с высоченной температурой, совершенно больной. Его отговаривали, а он сказал: «Я должен проститься с великим музыкантом». Такого нельзя забыть.
Вайнберг — очень талантливый композитор. Широкая публика знала его по музыке к фильму «Летят журавли» и мультяшкам про Винни Пуха. Но он автор более двадцати симфоний. Лучшие его сочинения, на мой взгляд, те, где он обращается к еврейско-польской поэзии. Родные Метека были уничтожены в концлагере. У него есть симфония, посвященная павшим героям восстания в Варшавском гетто. Там в какой-то момент внезапно возникает реминисценция: баллада Шопена. И невозможно удержаться от слез, ну невозможно. Когда он написал свою последнюю симфонию, я уже был за границей и умолял его: «Дай я сыграю ее. Здесь сыграю!» — «Ты знаешь, Рудик, нет. Я не могу. Я еще боюсь». Он боялся до конца своих дней. Его пытали крысами в тюрьме. Раздевали догола и запускали в камеру голодных крыс. Он рассказывал мне, как они его кусали, повсюду кусали. «Нет, Рудик, лучше не надо». Шостакович делал все, что мог, пытаясь вызволить Вайнберга из тюрьмы: писал письма, ходил к кому-то на приемы… Когда Сталин умер, следователь вызвал Метека и сказал, что вот, знаете, дело ваше, гражданин Вайнберг, пересмотрено, открылись новые обстоятельства, обвинение было ошибочным, вы, оказывается, невиновны. Собирайте вещи и идите домой. Метек отказался. Он решил, что это провокация. «Нет, — говорит, — никуда я не пойду. Я — еврейский буржуазный националист, я, как вы знаете, рыл подкоп к Кремлю, и не надо меня провоцировать». Следователь бился неделю, но Вайнберг отказывался признать, что не виноват. Тогда тот позвал жену Вайнберга, Талочку Михоэлс: «Не знаю, — говорит, — что мне делать, как мне заставить вашего мужа подписать бумагу, что он невиновен». Он, понимаете, не знал, как заставить. Жена попросила, чтобы следователь соединил ее с мужем по телефону, когда снова вызовет его в свой кабинет. Тот так и сделал. И жена сказала: «Метек, Сталин умер». Через полчаса он признался, что не виноват.
Какой ужас, какой ад. Куда там Кафке. Как пережить такое?
Шостакович никогда не мог простить Сталину антисемитизма. Это был для Д. Д. особый пункт. Он не был никаким евреем: просто презирал антисемитов, как все настоящие русские аристократы и интеллигенты. Он говорил, что для него в евреях сосредоточена беззащитность человечества. Хотел бы сказать, что и по моему убеждению, антисемитизм — величайшее историческое заблуждение. Интеллигентный, цивилизованный человек не может не знать, что Иисус был евреем. Настоящим, рожденным от еврейской женщины евреем и, более того, раввином. Он служил в синагоге, службы вел. Он упрекал евреев в своих проповедях в том, что они забыли заветы великих предков, забыли, по существу, настоящую религию. И он ее восстановил, Иисус. И он именно из еврейской религии создал христианскую — для неевреев, для других народов. Это известно, это не может образованный человек не знать. Другое дело, воскрес — не воскрес, это вопрос вкуса. Но что такой человек был, что он стал переживать за человечество и пострадал за человечество — какие тут могут быть сомнения? Так что антисемит, я считаю, не может считаться настоящим человеком, а тем более христианином. Он принадлежит к антихристовой армии. Это самые ненавистные для меня люди. И так же было для Д. Д… Помню, как он возмущался, когда Ведерников отказался петь партию в «Бабьем Яре» — это часть Тринадцатой симфонии, о ней разговор впереди. «Какой позор, — он говорил, — как ничтожно отказаться от этого!» Еврейская тема в Четвертом квартете — это же был прямой вызов Сталину. Или цикл «Еврейские песни». Однажды я был с Шостаковичем на исполнении этой вещи, мы часто ходили на концерты вместе. Поднялись потом в артистическую, и слышу, Василий Ширинский, музыкант, говорит: «Какая прелесть — сегодня среди исполнителей ни одного еврея, хотя тема вот такая еврейская». Шостакович как стоял на пороге — громко сказал, чтобы все слышали: «Терпеть не могу охотнорядцев. Пойдемте-ка отсюда, Рудольф Борисович».
…Играли мы, играли над гробом товарища Сталина, потом подходит Холодилин: «Ребята, одевайтесь, поедем сейчас в Союз композиторов, там другие похороны».
Нас посадили в «скорую» и привезли в Дом Союза композиторов. А там у входа — портрет Прокофьева в траурной рамке. Прокофьев. Я последний раз виделся с ним в пятьдесят втором году, на концерте, где мы с квартетом сыграли его «Увертюру на еврейские темы» и «Мимолетности». Сергей Сергеевич умер дома, в Камергерском переулке. Автобус, чтобы забрать гроб, подъехать туда не мог из-за того, что творилось в Москве, и несколько студентов на руках пронесли Прокофьева в гробу через толпы и пробки до здания Союза композиторов на Третьей Миусской. Мы надели фраки, сели у гроба и сыграли часть из его квартета.
Так я в один день хоронил товарища Сталина и Прокофьева, играл панихиду. В Колонном зале, правда, мы потом еще играли три дня и, кажется, две ночи.
26
Наверное, вам будет трудно поверить: из огромного наследия Вивальди до середины двадцатого века в России знали три или четыре концерта. Старинную музыку, в частности Генделя, Баха и дальше до Моцарта включительно, играли большими составами, обыкновенным оркестрами — камерных оркестров в России не было. А ведь Бах, Вивальди, Моцарт, все композиторы эпохи барокко писали именно для камерного. Вернее, в их времена это был обычный состав: десять — пятнадцать музыкантов. Потом оркестры делались все больше и больше — в симфонических бывает более ста человек, — и эту музыку стали адаптировать под их возможности. А вернее, потребности: чтобы занять побольше оркестрантов. В книге о Бахе Альберт Швейцер пишет, что когда ми-мажорный концерт Баха, это гениальнейшее творение, играют большим составом и вторую часть, адажио, начинают развозить двенадцать виолончелей и полдюжины контрабасов, ему хочется в ужасе бежать из зала. Совершенно точно. Но публика привыкла.