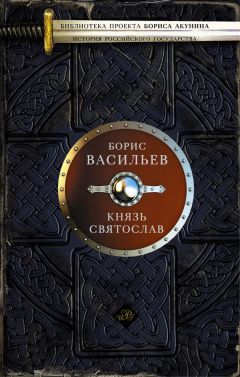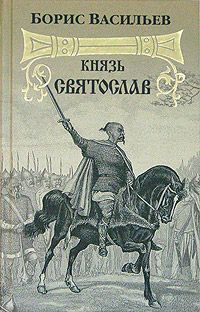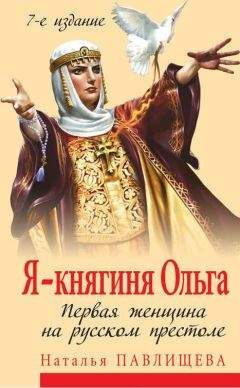Борис Пастернак - «Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями
Женичка моя, Женичка моя, Женя, это ведь я объясненье тебе написал. Боже, что со мной!
<20 июня 1924. Москва>Милый друг! Мне так тяжело, так тяжело на сердце, словно ты в слезах отчего-то, словно я тебя чем-нибудь огорчил. Это оттого, что вчера написал я тебе письмо, в которое вложил всю душу. Я писал тебе и сидел на окне у тебя, и гуляли мы, и садились по дороге отдохнуть и поговорить. Это таким водоворотом вошло в мой день, что я ждал чудес, чего-то вроде апельсинного дождя над землей, или крылатого ангела в дверях, несущего на руках тебя, или чего-нибудь еще чудеснее.
Вместо этого я столкнулся с кристаллически сволочными фактами, которые всегда меня так возмущают. Это из такого разряда явленья, которые волнуют своим тупоумьем и бесцельностью. Вдруг представители того или иного вида закона требуют с тебя таких вещей, которые доказывают, что вместо тебя они разумеют кого-то другого. И особенно оскорбительно это было в день, когда с неба должны были дождем падать апельсины. Зачем они это делают, я никогда не уступал им, не получат они с меня ничего и теперь и верно удовлетворятся этим. Но к чему эта их потребность в спорах, в разоблаченьи чепухи и в бесплодной трате времени. О бездарная, бездарная посредственность, прирожденная могильщица, призванная отрывать человека в редчайшие минуты от живейших мыслей и дел.
Кажется ведь Микобер (телячьи котлетки в “Крошке Доррит”) без ума был от своей Микоберши? Неужели я, того не замечая, уподобляюсь Диккенсову герою? Но это сравненье ввела ты. Я тебе этих неприятностей (их несколько) не называю.
Говорю же я о них потому, что удивительно складывается мое огорченье. Я тебя так сильно теперь люблю, что все, что со мной делается, отношу к тебе. Точно я душой и телом твой, и когда больно телу или печально на душе, я страдаю за урон, причиненный твоей собственности. Я не могу отделаться от нелепой мысли, что если мне грустно сейчас, то тем более грустно тебе. И людей, досадивших мне, я ненавижу, как твоих мучителей. Знакомо ли тебе это чувство, оно отличается такой определенностью. Словом, я не знаю куда деваться от того, что так огорчают тебя и не дают денег, и требуют их с тебя, и не восхищаются твоим имуществом, и не прощают ему ничего. У меня настроенье лета 17 года[85].
Но странно, вот что я тебе скажу. Только оттого и строится мое прозябанье в средние поры по форме настроений, что в лучшие времена бывают у меня настроенья почти метафизической значительности, то есть такие, которые делают меня в сильнейшей степени доступным действию того, что ты называешь причинами. Так оно и сейчас. Я до боли размечтался о тебе. Ты неописуемо хороша в моей мечте и в нескольких разрозненных и отдельно стоящих воспоминаньях. Я горжусь тобой. – Высотой требований, которые предъявляет твое существо, как краска свету, для того чтобы существовать. Ты можешь быть и не быть. Вот ты есть, и я души в тебе не чаю, заговариваюсь тобой и ты требуешь все большего и большего.
Назвать ли мне точно то счастье, которое я себе обещаю. Ты убедила меня в том, что существо твое нуждается в поэтическом мире больших размеров и в полном разгаре для того, чтобы раскрыться вполне и дышать, и волновать каждою своею складкой. Ты была изумительным, туго скрученным бутоном, когда тебя уловили фотографии твоих детских документов и удостоверений Девичьего поля, и Станевич[86] и еще кто-то. Твоя сердцевина хватала за сердце тою же твердой и замкнутой скруткой, горьким и прекрасным узлом, когда быстро и беспорядочно распустившаяся по краям, ты имела столько рассказать о мастерских и о жемчужинке. Как рассказать тебе о том, что произошло дальше. Мне больно вводить в письмо все дешевые пошлости, которые приходится говорить о самом себе. Я расскажу как-нибудь на словах. Но если бы я просто покорился своей природе, горячо любимая моя, я бы ровным, ровным теплом самосгорающего безумья окружил тебя, я бы ходячим славословьем тебе бродил среди друзей и смешил их или тревожил загадочностью своего состоянья, я бы недосягаемую книгу написал тогда вместо одного того письмеца Кончаловскому[87], и бережно, лепесток за лепестком раскрыл бы твое естественное совершенство, но раскрывшаяся, напоенная и взращенная зреньем и знаньем поэта, насквозь изнизанная влюбленными стихами, как роза – скрипучестью и сизыми тенями, – ты неизбежно бы досталась другому.
О как я это знаю и вижу.
У меня сердце содрогается и сейчас словно это и случилось, от одного представленья возможности того, и я тебя к этой возможности глухо ревную. Ты неизбежно бы досталась другому прямо из моих рук, потому что с тобою в сильнейшей и болезненнейшей степени повторилось бы то, что бывало у меня раньше. Я не боюсь это сказать, как ни смешно и жалко это признанье на обычный глаз. Но этот глаз – предел пошлости, и, говорю я, глаза этого я не боюсь.
Тогда и началось это странное и смертельно утомившее меня прозябанье, при котором я стал учиться сдержанности, так называемому здоровью и, как это всегда бывает, от производного, от ассистентов перешел к руководящему, к основанью этой чуждой и вначале страшившей меня науки. То есть я стал стараться успевать в бесчувственности, в холоде, и приобретая объективность воззренья, стал переставать видеть тебя или видел искаженною, опороченною этим наблюдающим и судящим глазом. Я совершенно безбоязненно говорю тебе об этом и сейчас, в апогее смеющейся нежности к тебе, потому что это рассказ о моем горе, теснейшим образом связанном с тобой. Пускай все это было глупостью, вроде неизвестных мне Жониных тайн, но дело было сделано. Это делалось полгода, до 26-го февраля, и мои слова о смысле свершавшегося никак не отвлечение, то есть я не строю схем и не предаюсь их плетенью теперь, а наглядно вспоминаю свои состоянья и привожу решенья и мысли, точно так же звучавшие и тогда.
В те полгода мне казалось необходимым отказаться от музыки и стихов, от мира, рвавшегося раскинуться над тобой и вокруг тебя волною поклоненья, постиганья и одухотворенного ухода, и как ни странно, я в этом преуспел. Размах этого горького и мертвящего усилия, развиваясь все дальше и дальше продолжал действовать и тогда, когда и мнимой, воображавшейся надобности в нем не стало. Те вещи, которые я с таким идиотизмом постарался усвоить, были усвоены. Лень, невнимательность, глухота, пониженность страсти душевной, ослабленность эгоизма и порывистости, все эти сокровища, вселяясь в меня, помогли инерции затянуться на чудовищный срок. Я пока говорю о себе. Я знаю, что с тобой сделалось. Но вперед покончим с этим.
Я опустошил себя неслыханно. Прямо хоть плачь. Я любил тебя так, как сейчас. Когда ты была у меня с Мишей[88], предчувствие и предвосхищенье готовы были у меня политься с губ и с пера. О, не недооценивай последнего слова. Оно обладает могуществом, мало кому известным. Я знал, я мог сказать, как будет. Я вглядывался в тебя и убеждался, что в тебе очарованья и действительных данных (души, талантливости и ума) более чем довольно, с лишком и с каким (!) довольно, чтобы эта неподвижная буря тронулась и пошла обреченнокруговым, до слез торжественным движеньем, хоронящим и отпевающим себя, как вращенье неба. Я знал, что согрею и расправлю тебя, что ты вольно и без боли распустишься под бережным дыханьем поэзии, я знал, что ты ее и меня полюбишь, что только я буду тем единственным, кто не причинит ни малейшего вреда тому в тебе, что прекрасно и чем в тебе любуется бог. Я знал, что это само себя подтачивающее обожанье способно стать вторым рожденьем для тебя, и конечно оно больше матери, нарочно данной каждому человеку богом, чтобы быть внимательной к тому, на что бог не обращает вниманья. Я знал, что ты полюбишь меня и скоро запечалишься и станешь недоумевать, узнав, что с этим перегретым и благотворным миром жить нельзя, что о нем Шекспиры пишут “Сны в Летнюю ночь” и не более того. Я знал, что, огорченная и оскорбленная, ты уйдешь от меня, отдохнувшая и оправившаяся на таком воздухе, вдесятеро прекраснее и моложе, чем была, с раскрывшимися на себя глазами, с душой моей и мукою на кушаке, как с дорожным подарком. К другим.
И тогда я предпочел ужаснуть тебя всеми пошлостями, которые были неизбежны. Я отмел весь мир, который хоть ценою страданья, но скрашивал смехотворность и стыд открытья. Ты поэзии и поэта не видала. Я спрятал их от тебя, а потом и прятать стало нечего. Ты не полюбила меня, ты не прибыла, не расцвела, не согрелась, не отдохнула, ты замерла, ты свернулась, ты вобрала и те лепестки, что трепетали и топырились на тебе, раскрывшиеся проще и хуже и болезненнее, чем твоя прелесть заслуживала, но все же раскрывшиеся, сложились и съежились и они, ты попала в полосу, когда раем тебе мог и должен был казаться Леонардо[89], но ты не ушла. Ты должна была бы знать меня таким, каков был я раньше, чтобы поверить мне, что превращенье, случившееся со мной, твои страданья уравнивает.