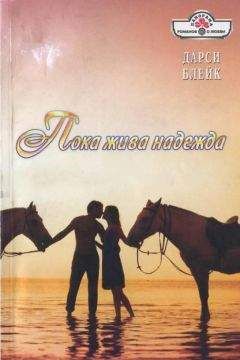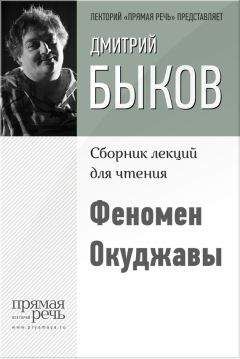Дмитрий Быков - Булат Окуджава
История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды!»
Окуджава не был автором этого текста, согласие подписать его передал по телефону, когда ему позвонил Приставкин, и можно думать, что он смягчил бы некоторые формулировки, а также, возможно, убрал проскрипционный список неблагонадежной прессы. Но можно понять и тех, чьи имена в этой прессе регулярно полоскали, и тех, кого партийные функционеры, перебежавшие теперь под знамена традиционализма и народолюбия, гнобили в предшествующие двадцать-тридцать лет; можно понять людей, которых много и с удовольствием били, пользуясь безнаказанностью, а теперь, когда они попробовали ответить своим мучителям их же оружием, их обвиняют в притеснениях и беззаконии!
Если же называть вещи своими именами, президентская сторона поступила в самом деле жестоко, грубо и беззаконно, и не только тогда, когда расстреливала Белый дом (это само собой), а и тогда, когда доводила до противостояния, обрубая малейшие возможности для компромисса, и тогда, когда вытесняла в оппозицию талантливых и попросту честных людей, возмущенных правовым и экономическим беспределом, и тогда, когда окружала себя бездарностями, лгунами и ворами. Не было ошибки, которой не сделала бы в 1992–1993 годах новая российская власть, начавшая свое триумфальное шествие развалом СССР, который будет аукаться нам еще не одно столетие, и завершившая его воцарением рыцарей плаща и кинжала из так и не реформированного лубянского ведомства. Хуже этой власти были только ее оппоненты, у которых было еще меньше принципов и вовсе никаких моральных ограничений – именно поэтому их апелляции к закону и гуманности выглядят так гротескно; см., например, романы А. Проханова «Красно-коричневый» или Ю. Бондарева «Бермудский треугольник», посвященные событиям октября 1993 года. И наконец, в заложниках у этой власти была вся творческая интеллигенция – которой за поддержку творящихся на руинах СССР безобразий была дарована всего-то нормальная возможность работать: свобода слова и передвижений по свету.
В октябре 1993 года многие предпочли оказаться над схваткой, но Окуджава был не из тех, кто ценит репутацию превыше всего. Иногда сохранить лицо – как раз и значит эту репутацию принести в жертву. В девяностые годы его трагедия была обусловлена тем, что эстетически красивая позиция стала невозможна: всю жизнь он имел возможность поступать аристократично, красиво и честно – в девяностые уже нужно было выбрать: либо честное поведение, либо красивое. Как писал в девяностые годы другой поэт – «вслед за ними явилась другая рать, и пришли времена распада, где уже приходится выбирать: либо ТО, либо ТАК, как надо».
Особую ярость окуджавовских оппонентов вызвала не подпись под «письмом сорока двух» (Ахмадулиной, например, никто и слова не сказал), а интервью в «Подмосковных известиях», данное Андрею Крылову и напечатанное 11 декабря. Вот фрагмент беседы, после которого на Окуджаву обрушились главные громы:
«– Булат Шалвович, вы смотрели по телевизору, как 4 октября обстреливали Белый дом?
– И всю ночь смотрел.
– У вас, как у воевавшего человека, какое было ощущение, когда раздался первый залп? Вас не передернуло?
– Для меня это было, конечно, неожиданно, но такого не было. Я другое вам скажу. С возрастом я вдруг стал с интересом смотреть по телевизору всякие детективные фильмы. Хотя среди них много и пустых, и пошлых, но я смотрю. Для меня главное, как я тут выяснил, – когда этого мерзавца в конце фильма прижучивают. И я наслаждаюсь этим. Я страдал весь фильм, но все-таки в конце ему дали по роже, да? И вдруг я поймал себя на том, что это то же самое чувство во мне взыграло, когда я увидел, как Хасбулатова, и Руцкого, и Макашова выводят под конвоем. Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним совершенно не было. И может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это – заключительный акт. Поэтому на меня слишком удручающего впечатления это не произвело. Хотя для меня было ужасно, что в нашей стране такое может произойти. И это ведь опять вина президента. Ведь это все можно было предупредить. И этих баркашовцев давно можно было разоружить и разогнать – все можно было сделать. Ничего не делалось, ничего!
– А с другой стороны, если бы президент пытался что-то предпринять раньше, демократы первые начали бы заступаться: дескать, душат демократию.
– Вот-вот, у нас есть такая категория либеральной интеллигенции, которая очень примитивно понимает нашу ситуацию. С точки зрения идеально демократического общества – да. Но у нас, повторюсь, нет никакого демократического общества. У нас – большевистское общество, которое вознамерилось создавать демократию, и оно сейчас на ниточке подвешено. И когда мы видим, что к этой ниточке тянутся ножницы, мы должны как-то их отстранить. Иначе мы проиграем, погибнем, ничего мы не создадим. Ну а либералы всегда будут кричать. Вот Людмила Сараскина, очень неглупая женщина, выступила с возмущением, что, дескать, такая жестокость проявлена, как можно, я краснею. Пусть краснеет, что же делать. А я думаю, если к тебе в дом вошел бандит и хочет убить твою семью. Что ты сделаешь? Ты ему скажешь: как вам не стыдно, да? Нет-нет, я думаю, что твердость нужна. Мы – дикая страна.
А вот теперь говорят, что в октябре среди защитников Белого дома были не только люмпены – там были и образованные люди. Наверное, были. Каждый заботился о своих интересах. И все эти господа, которые твердят, что они тоже за рынок, – все эти хасбулатовы и руцкие, – они совершенно о России не думают. Они думают о себе, о своих амбициях, о своих креслах. Ну что Руцкой? Он фельдфебель по уровню своему. Представляете, если бы он был президентом? Или – Хасбулатов? Или – Бабурин? Или вся эта шантрапа. Что это такое было бы! Страшная публика! Я не идеализирую ни президента, ни его команду, но я когда сравниваю, я, конечно, вижу очень серьезную разницу. Очень серьезную».
После публикации этого интервью – в котором опять-таки нет ничего криминального, есть и слова об ужасе происходящего, и о том, что власть сама довела противостояние до горячей фазы, – искаженные цитаты из него пошли гулять по прессе, а фраза про «финал детектива» склонялась на разные лады. Ишь, детектив ему! Кровожадный зритель. В январе 1994 года Окуджава выступал в Минске, и там случился уже упоминавшийся инцидент: во время пикетирования его концерта славянским собором «Белая Русь» (была такая организация в Белоруссии в девяностые годы, по духу близкая к «Памяти») актер Владимир Гостюхин сломал и бросил себе под ноги его пластинку, а из зала выкрикнули несколько оскорбительных фраз. Впрочем, большая часть зала тут же принялась просить прощения за земляков, к Окуджаве на сцену побежали дети с цветами… Он невозмутимо допел и дочитал программу. Игорь Волгин в своих воспоминаниях об Окуджаве предполагает, что он жалел о сказанных сгоряча словах – и про прижученных жуликов, и про необходимость силы и жесткости. Я абсолютно убежден, что, искренне сожалея о ситуации, в которой они были сказаны, о самих этих словах он не жалел ничуть. В интервью мне в июле 1996 года, после стремительного увольнения ближайших ельцинских силовиков А. Коржакова и М. Барсукова, он рассказывал о своей реакции на эту теленовость: «Я вздрогнул. Признаюсь, радостно вздрогнул. Мне было приятно, что погнали голубчиков». Отлично видя, что рейтинг Ельцина падает, что от него отворачиваются и те, кто всем ему обязан, он продолжал в интервью и письмах повторять: да, он часто ошибается, но другого нет. Опубликована его переписка с читателем Сергеем Вдовиным, пенявшим ему на категоричность его поздних высказываний. Сначала Окуджава отвечает мягко: