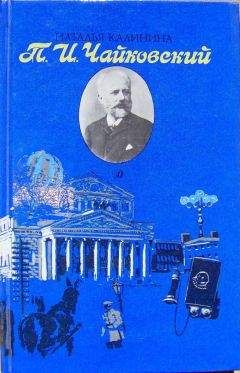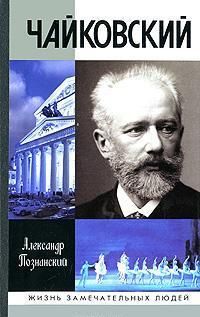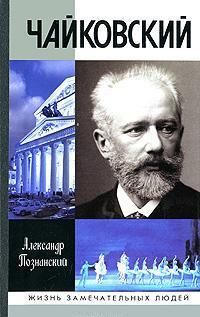Александр Познанский - Чайковский
Узнав, что Чайковский удостоен звания почетного доктора Кембриджского университета и едет в Англию на торжественную церемонию, Апухтин написал стихотворение «К отъезду музыканта-друга», в котором подводит своеобразный итог их многолетним отношениям:
К отъезду музыканта-друга Мой стих минорный тон берет,
И нашей старой дружбы фуга,
Все развивался, растет…
Мы увертюру жизни бурной Сыграли вместе до конца,
Грядущей славы марш бравурный Нам рано волновал сердца, —
В свои мы верили таланты,
Делились массой чувств, идей…
И был ты вроде доминанты В аккордах юности моей.
Увы, та песня отзвучала,
Иным я звукам отдался,
Я детонировал немало И с диссонансами сжился, —
Давно без счастья и без дела Дары небес я растерял,
Мне жизнь, как гамма, надоела,
И близок, близок мой финал…
Но ты — когда для жизни вечной Меня зароют под землей, —
Ты в нотах памяти сердечной Не ставь бекара предо мной.
Известный русский юрист и общественный деятель Анатолий Федорович Кони вспоминал: «Последний раз в жизни я видел Апухтина за год до его смерти, в жаркий и душный летний день у него на городской квартире. Он сидел с поджатыми под себя ногами, на обширной тахте, в легком шелковом китайском халате, широко вырезанном вокруг пухлой шеи, — сидел, напоминая собой традиционную фигуру Будды. Но на лице его не было созерцательного буддистского спокойствия. Оно было бледно, и глаза смотрели печально. От всей обстановки веяло холодом одиночества, и казалось, что смерть уже тронула концом крыла душу вдумчивого поэта».
Семнадцатого августа 1893 года поэта не стало. Известие о кончине старейшего друга не затронуло композитора столь глубоко, как можно было ожидать. «Несколькими годами раньше, — отмечает Модест, — одна подобная весть подействовала бы на Петра Ильича сильнее, чем все эти вместе взятые теперь. <…> Об Апухтине он тоже говорил иначе, чем прежде об умирающих; чувствовалось, что теперь он не поедет, как бывало… за несколько тысяч верст, чтобы повидать друга перед вечной разлукой. Смерть точно стала менее страшна, загадочна и ужасна. Было ли это результатом того, что чувствительность с годами и опытом огрубела или испытанные им моральные страдания последних лет приучили видеть минутами в смерти избавительницу — не знаю».
Когда несколько недель спустя великий князь Константин Константинович попросил Чайковского написать «Реквием» на стихи Апухтина, тот отказался: «Меня немножко смущает то обстоятельство, что последняя моя симфония, только что написанная и предназначенная к исполнению 16 октября (мне ужасно бы хотелось, чтобы Ваше высочество услышали ее), проникнута настроением, очень близким к тому, которым преисполнен и “Реквием”. Мне кажется, что симфония эта удалась мне, и я боюсь, как бы не повторить самого себя, принявшись сейчас же за сочинение, родственное по духу и характеру к предшественнику». Означает ли это, что, создавая Шестую симфонию, он писал реквием по себе, как полагают некоторые авторы?
В письме от 26 сентября, окончательно отклонившем просьбу К. Р., сказано: «Есть и еще причина, почему я мало склонен к сочинению музыки на какой бы то ни было реквием, но я боюсь неделикатно коснуться Вашего религиозного чувства. В Реквиеме много говорится о Боге — судии, Боге — карателе, Боге — мстителе (!!!). Простите, Ваше высочество, но я осмелюсь намекнуть, что в такого Бога я не верю, или, по крайней мере, такой Бог не может вызвать во мне тех слез, того восторга, того преклонения перед создателем всякого блага, которые вдохновили бы меня». В этом письме прочитывается высокая степень расположения, оказываемая Константином Константиновичем композитору, и обаятельная манера Петра Ильича держать себя с высоким покровителем на равных.
Он настолько был занят симфонией, проблемами, связанными с Модестом и Бобом, гастролями, что весь остальной мир казался ему не важен, не существен, оставаясь неким фоном, декорацией. Внутренняя реакция на смерть Апухтина могла быть очень глубокой, но внешне оставалась сдержанной, во всяком случае, истерик не было. «В ту минуту, как я пишу это, — писал Чайковский Бобу Давыдову из Клина 20 августа 1893 года, — Лелю Апухтина отпевают!!! Хоть и не неожиданна его смерть, а все жутко и больно. Когда-то это был мой ближайший приятель».
В Петербург он приехал, когда Апухтина хоронили, и остановился на Английской набережной у Лароша. Жить в квартире Конради он больше не мог — Модест с Бобом наконец решили поселиться отдельно. Вызвано это было длительным кризисом в отношениях, усугубившимся в последние годы. Расточительность Модеста давала себя знать, пьесы денег почти не приносили, а с прекращением субсидии от фон Мекк брат уже не мог помогать ему как раньше. Тот это хорошо понимал* но научиться жить скромнее так и не сумел. Коля, долго терпевший то, что воспитатель привык считать его деньги своими, решил положить этому конец. Сославшись на неурожай в имении, он недвусмысленно дал понять ему, что больше не может его содержать. 20 августа Чайковский писал брату: «Касательно Коли* — то что бы ты ни писал* а я все-таки считаю его большой свиньей, но постараюсь по возможности не показывать ему моих чувств. Вопрос о Вашем устройстве меня очень беспокоит. Все это прекрасно, но деньги, деньги’!! У меня их, как нарочно, теперь немного». В письме Анне Мерклинг от 29 сентября он также касается этой проблемы: «Чем больше думаю о низости и свинстве Коли Конради, тем более возмущаюсь и оскорбляюсь. Но, боже мой, нужно по правде сказать: ведь только такого рода люди как Коля Конради… и живут счастливо на свете. Черствое сердце, посредственный, никогда в суть вещей не проникающий ум, эгоизм — вот условия для благополучного прозябания на этом свете». Защищая интересы Модеста, он, конечно, не мог сохранить объективность.
Сезон 1893/94 года обещал быть очень насыщенным. Иван Греков, импресарио Оперного театра в Одессе, умолял Чайковского приехать снова. Именно Грекову адресовано его последнее дошедшее до нас письмо от 21 октября. Композитору трудно было найти время: 27 ноября должны были состояться концерты в Петербурге, 4 декабря — в Москве, 15 и 29 января — снова в Петербурге, в марте предполагался Амстердам, в апреле — Гельсингфорс9, в мае — Лондон. Приглашали его в Харьков, Варшаву, Франкфурт-на-Майне и другие города.
Он ненадолго выехал в Гамбург 23 августа, где должен был появиться по случаю представления «Иоланты», и 26 августа/